Пока лес не оделся, навстречу солнцу спешили первые цветы — желтые. Вместе с гусиным луком засияют безлистые цветы мать-и-мачехи, а за ними на опушках поднимутся сладкие баранчики, первоцветы, появятся лютики и купальница, светлые лужи низинных лугов усеет желтыми блестящими чашечками калужница, а взгорье луга вышьет маленькими золотистыми солнцами одуванчик; позднее лес и луг, окраины поля заполнят лиловые, синие, розовые, красные цветы, и, конечно же, будет преобладать белый цвет, куртины черемухи поднимут белые столбики-свечечки, а калина раскинет душистые кремовые тарелочки — будто по кайме оврагов молоко пролили…
Никандров рассуждал по-крестьянски. Если будет стоять такое тепло, через день-два снег тронется из леса водой. И хорошо, что его, Никандрова, выхлопотали, а то позднее он не прошел бы ни лесом, ни здесь, несмотря на высокие охотничьи сапоги.
Перед самым прудом, на припеке, в редком орешнике набрал букетик хохлаток и анютиных глазок, хохлатки с сероватыми листьями пахли сыростью и зеленью, анютины глазки — солнцем, теплом минувшего лета, они цветы прошлогодние.
Около пруда сел на старый, теплый от солнца пенек. В спину через пальто на вате калило солнце, усталые ноги дремотно гудели. Но забыться в полудреме не давали грачи, они истошно каркали на старых гнездах, черневших комьями на нагих светло-зеленых ивах. Кругом шумело и ревело — оврагами шла полая вода. И лишь пруд все раздумывал. Он лежал перед Никандровым огромной серой рыбиной, хвост которой глубоко вдавался в осиновую чащобу. Осины так тонко и ясно зеленели, что хвост пруда тоже казался зеленым. Ближе к плотине поднятый толстый серый лед, из-под которого по спуску бугрилась вода, раскололся на большие плиты, расщелины и изломы горели хрусталем, играли радугой.
На большой поляне у пруда, у самого берега, истоптанного осенью коровьими копытами, было голо и черно, земля, оттаивая, парилась. Колья и слеги летней калды от налета пыли и плесени выглядели уныло-серыми, местами колья были срублены и увезены вместе со слегами. Рубили, видно, зимой — пеньки торчали на полметра от земли. У избушки доярок исчезло крыльцо. Кому-то и это надо было. Никандров подумал, что здесь с кем-то хозяйничал Грошев. Теперь все плохое связывалось с именем бригадира. Вспыхнувшая мысль о Грошеве подняла его на ноги, он вошел на середину плотины и остановился.
Овраг был как бы мельче, чем тогда, может, его глубину скрадывала желтая пенистая вода, в которой краснотал тонул почти по самые макушки, лишь сухая верба изогнутым коленом возвышалась над шумящим потоком. Об это колено Маша и ударилась. Посмотрел пристально на лесной букетик первоцветов. Сколько бы отдал за него там, в Коневе, окажись он у торговок. Ему-то, этому букетику, Маша, конечно, обрадовалась бы. А здесь он просто был не нужен. Пальцы разжались, цветы упали. Бурлящая вода подхватила их, утянула в пучину, затем выбросила наверх, только гораздо дальше от того места, где они упали, и где поток шел тише и ровнее, и они поплыли, кружась и ныряя, все дальше и дальше. Он проводил их взглядом и, когда они скрылись из глаз, заторопился, почему-то ему непременно нужно найти Грошева.
— Я его донага раздену, пусть видят, какой он есть!
Он шел по мягкой, расступающей полевой дороге.
И хотя земля оттаяла не глубоко, на сапоги пристало столько липкой густой земли, что ноги, наверно, потяжелели на целый пуд. Временами он стряхивал грязь, но проходил несколько шагов, и тяжесть тянула с прежней силой И он перестал отряхивать грязь, а давил, тяжело ступая и брызжа в стороны черными ошмотьями.
К удивлению Прасковьи, письмо было от Грошева. Раскрыла конверт, глянула на листок и помучнела. Семен Семенович подумал, что она упадет, поддержал, заглядывая в выскользнувшую бумагу.
— Чем он тебя напугал?
Пока Семен Семенович поднимал тетрадочный лист, Прасковья села у крошечного столика и хрипло сказала:
— Предупреждала: уйди из доярок, изувечишь себя, от тяжести грыжу наживешь… Не послушалась. Забрать ее сюда? — Встала, шаг шагнула — в стену уперлась. — Квартиру скорее бы давали!
Не плакала. Плакала после. Проснулась среди ночи, раздумалась, чуть ли не до самого рассвета тихонько мочила слезами подушку. А Семен Семенович спал, повернувшись к ней спиной. Она не досадовала, что он спит: это было ее горе, а она не хотела делить его с мужем.
Спустя два дня Прасковья отпросилась съездить в Конев. И хотя развезло, она не пугалась дороги. До Малиновки не доберешься, а до Конева — села на автобус и кати.
Читать дальше




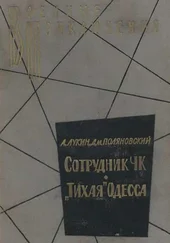
![Александр Борисюк - Тихая деревня [СИ]](/books/412501/aleksandr-borisyuk-tihaya-derevnya-si-thumb.webp)

