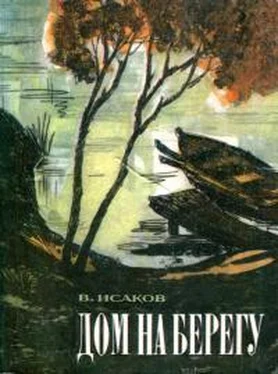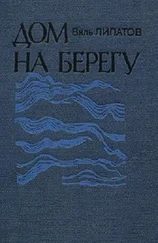В нем появилось и защемило желание махнуть на все, прийти к себе в мастерскую и написать этот день. Беспокойство о жене, неприятный гость, ночной разговор — все показалось ему чепухой перед тем, что владело им сейчас.
Он быстро вышел на улицу и пошел в мастерскую, думая только о том, чтобы не расплескать теперешнее свое настроение и поскорее сесть писать.
Весь день он был как в лихорадке. Не ел, не пил, только менял белила, курил и работал. Было холодно, коченела рука, но не хотелось отрываться, топить печь. Он будто заболел — разбеспокоился, разволновался. Словно сделать эту работу — и все сразу устроится, образуется, все станет хорошо.
Когда были положены последние мазки и Кленов, отвернувшись, сел в стороне покурить, он подумал: наверное, если поработать, из этого наброска можно что-нибудь сделать. Повесить бы его в хорошем зале.
Кленов долго сидел в мастерской, потом вспомнил о жене, о госте, о своем дне рождения и заторопился домой. Счастливый и опустошенный, он шел по бело-голубым улицам — не шел, а просто пританцовывал, даже попытался что-то спеть…
Чертовски хорошо было ему в этот день.
— Ну вот… Вот и лето прошло.
За окнами на воду медленно падал снег. Белые хлопья садились на стекла, таяли, бесшумно стекали вниз. Теплоход шел по серому молчаливому озеру. Время от времени ударяла волна, на палубе начинали возиться мокрые, замерзшие чайки, а здесь, в каюте, было тепло, как дома. Вздрагивал мотор, где-то наверху, в крошечной рубке, скрипел штурвал, за которым сидел маленький хмурый капитан, и снова устанавливалась тишина.
Теплоход был почти совсем пустой. Внизу в полутьме пустовали пыльные дерматиновые диваны. Пусто было на корме, на палубе — везде, где летом толпится народ. В носовой каюте ехало четыре женщины — молодая с ребенком и три постарше, с узелками и котомками. Все смотрели за окно — на снег, на озеро.
— Прошло лето, — повторила одна из женщин. — Хватит, погрелись.
Пожилые вздохнули и завели разговор про грибы.
— В Ломах нынче белых было — косой коси, — сказала светловолосая женщина в мокром мужском дождевике. — У нас старухи на весь год запаслись. Городских только много ездит, никакого покоя.
— Долго тепло — вот и грибы, — поддержала загорелая, обветренная пассажирка в ватнике, сидевшая возле другого окна. — У нас в лесничестве и сейчас рыжики стоят. Муж у меня лесником в Заплавье, Мосягин Степан…
Помолчали. Снова посмотрели на снег.
— А ты чья будешь, в Ломах-то? — спросила старуха в черном платке, с властным подбородком и тяжелыми морщинистыми руками.
— Да я не из Ломов. Из Веретья. Ивана Трифонова жена.
— То-то я смотрю. Трифоновы-то нам родня. А я из Городца. Никифорова Дарья. Может, слыхала?
Мало-помалу выяснилось, что, поискать, у всех трех на озере найдутся какие-нибудь общие тетки, дядья, племянники или племянницы. Стали перебирать родственников, вспоминать, кто и как живет.
— Значит, Иван теперь плотником, — допытывалась властная старуха. — А ты кем — на ферме, что ли?
— На ферме…
— Небось, новый дом построили?
— Построили.
— Стало быть, богато живете. Ну и ладно. А как Михаил с Татьяной?
Старуха долго расспрашивала веретьевскую доярку, потом распустила платок, повернулась в другую сторону и принялась за жену лесника.
В общем разговоре не участвовала только женщина с ребенком. Она сидела в стороне, прижимала к груди голубое одеяло, перевязанное лентой, и робко, волнуясь, смотрела в его глубину. За все время она ни разу не подняла глаз, не видела и не слышала ничего вокруг. Ее молоденькое девичье лицо светилось теплым, тихим и безмятежным светом.
— Сколько же тебе лет, девочка? — прервав разговор про родню, вдруг спросила старуха.
Молодая мать впервые подняла голосу и улыбнулась:
— Восемнадцать…
— Куда же ты едешь? В такую-то погоду?
— Домой, в Сосницы. Вот только из роддома.
Она слегка зарумянилась и снова стала смотреть в глубину одеяла. Боялась, как бы не разбудить… Но малыш, видимо, крепко спал.
— Мальчик или девочка? — ласково спросила доярка в дождевике.
— Мальчик… — всем существом молодая мать почувствовала тепло своего маленького сына. — Спит.
— А можно посмотреть?
Доярка и жена лесника зашуршали мокрой одеждой, обступили растерявшуюся мать и, затаив дыхание, глядели в глубину одеяла. В их взглядах было что-то вроде зависти.
Одна старуха безмолвно продолжала сидеть в стороне.
Читать дальше