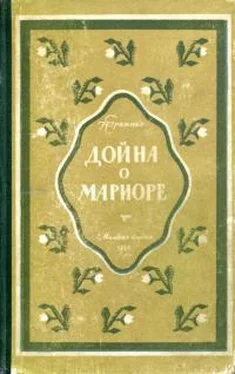— Где Панагица? — Услышав, что на огороде, попросил неожиданно вкрадчивым голосом: — Посиди со мной, коза.
Девушка вздрогнула, пробормотала что-то о белье, которое нужно снимать, и убежала.
На дворе Челпан не показывался. В первый же вечер, как он появился в имении, Панагица сказала Мариоре:
— Ты о Челпане, смотри, никому ни слова. Хорошо?
— Почему? — удивилась Мариора.
— Смотри, если скажешь, лучше на глаза тогда не попадайся!
— Зачем я буду говорить? — ответила Мариора.
Панагица смягчилась. Пухлой ладонью она поправила свесившиеся на лоб волосы Мариоры и сказала, что всегда хорошо относилась к ней, потому что она хорошая девушка. И добавила: нужно, чтобы Тудореску раньше времени не узнал, что Челпан живет у него в имении.
— Счеты у них какие-то, — объяснила Панагица. — Тимофей-то, давно еще, проштрафился, — ну, знаешь, молодость! А боярин и заявил на него судебным властям. Тимофей выпутался, у него тогда деньжата были, да и давай мстить боярину. Боярин и разозлился. Видеть его теперь не может. Да Тимофей говорит — они помирятся. Так не скажешь, да?
Мариоре противно было видеть Челпана, не то что говорить о нем.
Ей хорошо было с отцом, с рабочими и чабанами. Вечером отец уступал ей свои нары, устланные овчинами, а сам перебирался к Ефиму и Филату на пол, на подстилку из мешковины. Шутил:
— Со стариками-то лучше, чем с кухонной боярыней!
Мариора кивала головой и вспрыгивала на нары.
Приходили полевой обходчик — веснушчатый Матвей, сторож Васыле, рабочие из сада и с огорода.
Началась вторая половина лета. Сады рябили созревающими яблоками и грушами. На полях шла уборка хлеба. Матвей часто рассказывал:
— Сегодня с пригорка видел: наши-то жнут вовсю…
— Кто это — наши? — с досадливой усмешкой спрашивал вечно угрюмый чабан Филат.
— Ну, малоуцкие…
— Были наши, да сплыли. Нашего в селе — только память о нас.
— Замолчи, — с горечью говорил Матвей.
Но не говорить об этом было нельзя. Часто Ефим, стараясь не попасться на глаза управляющему, выбирался под вечер из усадьбы, шел укатанной проселочной дорогой в поле. Шумно вдыхая старческой грудью густой, ласковый воздух родного простора, поднимал комочки мягкой земли, мял ее пальцами, а дойдя до вершины холма, долго смотрел вниз, туда, где в зеленых камышах голубой струйкой бежал Реут.
На том берегу, далекие, гнездовьем белых домиков среди садов виднелись Малоуцы… А вокруг села лежали крестьянские поля. Вон там, слева от села, где зеленые кудри сада выступают еле приметным мысом, двадцать лет назад были его, Ефима, полоски…
Зеленоватые глаза старика молодели. Вспоминал Ефим слова Филата: и село стало чужое, и поля чужие…
— Нет, неправда! — вслух говорил Ефим, поджимая высушенные старостью губы. — Мы тут родились, это наши поля.
За отлучки Ефим не раз был бит, но он только глубже втягивал голову в плечи, ежился и на раздраженный вопрос управляющего, повторится ли это, упорно молчал.
А вечерами рассказывал:
— Эх, и колос в этом году, ну, будто молоком напитанный! Урожай будет!
— Нам его не видать! — обрывал Филат, ссутуливаясь еще больше.
Слушая такие разговоры старших, Мариора отворачивалась к стене, с головой укрывалась шубой. Ей тоже было больно думать, что пришлось продать и бросить все свое, родное, уйти из села, где похоронена мать, и второй год топтать чужие полы, есть чужую мамалыгу. Да еще слышать от Панагицы: «Что с тобой было бы, если б не боярин…»
Часто рабочие просили старика Ефима что-нибудь рассказать. Лет тридцать пять назад Ефим был в царской армии, раненым вернулся с японской войны. В седьмом году вступил в дружину Котовского. Несдобровать бы Ефиму, если б Тудореску узнал, что Ефим был в числе дружинников, которые вместе с бесстрашным Котовским громили имения, освобождали из помещичьих подвалов крестьян, брошенных туда либо за то, что срубили в помещичьем лесу дерево для починки касы, либо просто за неповиновение; на лесных дорогах останавливали экипажи помещиков и купцов, отбирали у них деньги, — деньги Котовский раздавал крестьянам.
Но через несколько месяцев Котовского выдал властям провокатор, дружина распалась. Слышно было, что Котовского судили, присудили ему сидеть в тюрьме. А он на суде говорил, что тюрьма ему не страшна и он все равно всю жизнь посвятит борьбе с ненавистным общественным строем.
Никто не сомневался, что долго Котовскому в тюрьме не сидеть: в каждом городе, в каждом селе у него были друзья.
Читать дальше