Наталья Суханова
Зеленое яблоко
В истории шестнадцати первых лет моей жизни, которую я хочу написать, нет ни выдуманных героев, ни выдуманных обстоятельств. Это не значит, что я не ошибаюсь в чем-то: ведь речь идет о том, как чувствовала и постигала именно я, а отчасти, раз это воспоминание, и о том, каким вспоминаю я то время теперь.
Конечно, первые месяцы, а то и годы, канули в неназываемое, а значит и несознаваемое. Как давно, собственно, я помню себя? Может, с тех пор, как обособилась? Сами мир и бытие известны тебе так изначально, что в четыре года, когда уже осознаешь себя, относишься с непониманием к разговорам о том, будто тебя недавно еще не было. Может быть, здесь не было? Они действительно недавно с тобой знакомы? Или не было в этом виде? Ты и сама смутно помнишь, что вот такой, как сейчас, стала недавно, а была иной, очень иной, возможно собакой или рыбой, а вернее просто взрослой женщиной. Не потому ли это, что первые, самые длинные дни, недели, месяцы я видела перед собой женщину, которая больше, чем я сама, повиновалась моим желаниям, и, видимо, я ее привыкла считать собой.
В том, уже самостоятельном детстве тебя коробят родительские рассказы, как ты, младенчески-беспомощная, пыхтишь, корчишься, гнусаво кричишь. Единственное, что тебе импонирует в том младенце, беспомощно открытом чужим, пусть даже любящим взглядам, это мутный, ни на кого взгляд (так даль подернута мглистым, обращена в себя) да еще то, что никому покамест младенец не улыбается: не нужны ему ваши сюсюканье и тетешканье, помогите лишь встать на ноги — все остальное, истинно ему нужное, он сам подглядит, подслушает, наконец.
Испытываю ли я, как набоковский герой, ужас к бездне до моего рождения? Нет. Испытывает ли ужас рыбак, вытягивающий рыбу из моря смерти? Ибо что же для него глубины моря, как не бездна, в которой жить ему невозможно, но можно оттуда поесть. Бездны безднами, но их втягивает в себя рыбак, чтобы быть. Я та же воронка сущности, что и рыбак. Я выудила глаза и брови из прошедших людей моего рода тюркских кровей и кое-что прихватила от них и в характер. Рот, подбородок я выудила с другой стороны. Все это рыбы из бездны, но их можно поесть, превратить в свое бытие. Внутри меня так многолюдно. Мне придется их всех подогнать друг к другу, чтобы они стали мной. Потому-то, наверное, младенцы поначалу почти слепы, глухи — они входят в мир спиной, как спиной повернут рыбак, вытягивающий сеть.
Есть ли я уже в это время? Наверное есть — как человек в катастрофе: сознание отключено, дабы не мешать безумно-быстрым реакциям по ухватыванию и строительству жизни. В «Солярисе» Лема-Тарковского невозможно оторваться от безумного, сверхчеловеческого ломления в дверь Хари — в ней погасилось сознание, осталось только сверхъестественное ломление сквозь железо. Дом рушится на человека, но человек его держит. Одну секунду, но держит. Не сознавая. Сознание, увы, законопослушно, оно должно быть отключено. Хари ломится в дверь и выламывает ее. Выломала, уничтожив себя. Но проходят минуты, и плоть нарастает. Фантастика? Нет. Ведь там, откуда мы истинно есть, в микромире, столь стремительно растут горы плоти. Воронка жизни. Черная дыра для наблюдателя извне. Яростно-белая, пересозидающая — с этой, другой стороны. Не одна, а бесконечное число глубей прошлого и настоящего втянуто воронкой, ни один луч отсюда уже не вернется на ту сторону.
Разгорается новое солнце жизни — здесь, сейчас, завтра. Собственно, это началось еще раньше, в зачатии меня, и приходится только удивляться, как слаб в сравнении с этим огнем тот отблеск его, которому поклоняются певцы эротики, секса, наслаждения. Упоительно, умопомрачительно — и все-таки скуповато одаривает новая жизнь тех, кто дает ей начало. Что магнитные стены реакторов, удерживающие плазму! Тонкая плоть человеческая, а в сущности те же поля, удерживают огонь возгорающейся жизни. И лоно мое — моя мать — замедлено, полуотключено, чтобы не мешать созидаться в нем мне. Ее, вспоминает она, тошнит в ту пору — еще бы, иной мир вошел в нее. Ей бы хотелось работать, она любит работу, но сейчас ее тошнит даже от любимой работы: иным занято ее существо. Нет, сзади не гроб, не гробы. Как, может быть, не гробы и впереди.
Есть ли тогда уже моя суть? Не знаю. А знаю ли я вообще свою суть? Пожалуй, знаю, но трудно определить. Не очень ласковая я. И есть во мне некое свысока — даже в жертве и смирении. Взыскующая я. Чего — взыскующая? Мира? Искусства? Истины? А если бы я, взращенная в логове зверя, не стала человеком? И тогда бы алкала. Чего — мяса, воздуха? Души мяса. Души воздуха. Их вхождения в меня.
Читать дальше
![Наталья Суханова Зеленое яблоко [СИ] обложка книги](/books/430595/natalya-suhanova-zelenoe-yabloko-si-cover.webp)








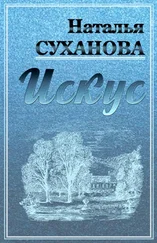
![Наталья Суханова - Анисья [СИ]](/books/430596/natalya-suhanova-anisya-si-thumb.webp)
![Наталья Суханова - От всякого древа [СИ]](/books/430598/natalya-suhanova-ot-vsyakogo-dreva-si-thumb.webp)