Но уже стронулась душа и вдруг ощутила, поймала! Сначала вкус «симиренки» — единственное яблоко не приторное, в котором сладость как нежность, а кисловатость как свежесть. И тут же передо мной возникло само яблоко: с упругой, блестящей нагретой кожицей, не пропускающей тепла в зеленовато-белую, крупчатую, душистую, с пузырьками влаги мякоть. Большое зеленое, в малюсеньких рыжих крапинках яблоко рядом с листом персикового цвета, и запах — главное запах! Мгновенным светом пронизало, прогрело холод моего нутра. Две сути: солнечности и сада, мира и меня — соединились, сошлись вдруг в яблоке. Восторг — восторжение, воспарение. На одно мгновение. Ибо тут же и вспомнилась та сторона дома: черное и желтое гудение жары. Там и здесь было одно, но несовместимо. Я хотела убрать мысленно эту черту — наш дом. И не могла: как можно было соединить тот гул жары и этот свежий, радостный световой поток? Мир снова распался. Но остался след. По крайней мере, две из трех несовместимостей удалось соединить, познать. И осталось воспоминание о мгновенном восторге.
Странно, ведь еще не знаешь, чего ищешь. Просто полон отсутствием. В том далеком детстве ты вся — великое отсутствие. Отсутствием ищется нечто. Ребенок не знает, чего он ищет, от чего отталкивается, но что-то в нем, как голоса в игре, когда ищешь с завязанными глазами: «Холодно… Холодно… Очень холодно… Теплее, теплее… Горячо… Нет, холодно». Ах, как предельно-точно вымеряно чувством отсутствие! Так больное животное ищет нужную траву, никогда не знав ее до этого. Так человек с секреторной недостаточностью ищет алкоголь, все время ощущая в цепи обмена обрыв, пустоту, смертность.
Кстати, о смертности. Смерть, обыкновенную смерть — знала ли я ее в детстве? Не знала, но сразу узнала неошибающимся чувством. Во дворе похороны. Пасмурный день. Покойника я не вижу. Отвратительный, грязно-красный цвет гроба. Отвратительный грязно-розовый цвет венков. Неошибающееся чувство зияющего провала, тления, серости.
И позже, в вагоне… Я вообще не любила поездов, автобусов, вокзалов, перронов. Уж очень мутяще-шаток, неверен был их мир. Когда подходил поезд, ведь не поезд для меня двигался, а мы начинали втягиваться в проход между стоящим и подходящим поездами — перрон с чемоданами, киосками, нами втягивался в образующийся тоннель, а небо медлило, и оттого еще больше кружилась голова. А когда уже сидели в поезде, ехали — мы просто качались, наше движение — это было вверх-вниз, а мимо проскакивали столбы, медленнее их продвигались дома и, почти не сдвигаясь, подмигивали вдали желтые огни. Ночь, теснота, блеклый свет. А тут еще — камни по стенкам вагонов, звук разбитых стекол. И молчавшее до этого радио: «Граждане пассажиры, если среди вас есть врач, просьба пройти в пятый вагон, в пятый вагон, в пятый…» Лязг сцеплений, чернота за окном, острое чувство смерти.
* * *
Менялся, расширялся мой наличный мир, но оставались холод, неутоленностъ, вечное чувство: не то.
Время подходило к школе, и меня начали «развивать».
Мать рассказывала: о чем бы я ни говорила, куда бы ни направлялась, сердилась ли или была покладчива, я всегда приплясывала. Но вот странность: я себя не помню танцующей. Мне кажется, в ту пору я дома всегда неподвижна, всегда в углу, всегда в себе. Наверно, приплясывание было машинальным до бессознательности. Единственный раз, когда меня словно разбудил голос соседки: «Как красиво она танцует! Как бабочка!» — я действительно обнаружила себя танцующей, но за секунду о том и не подозревала: две лампы занимали меня — под потолком и на столе, свет которых скрещивался. «Как бабочка!» — услышала я еще раз.
Потому ли, что я была «как бабочка», или из соображений физического воспитания меня определяют в хореографическую студию — и «бабочки» как не бывало. Тупее меня нет ни одной ученицы. И, наверное, ни одной, которая бы так ненавидела станок, соседок, их мамаш (вкупе с собственной), нашу руководительницу, что, проходя по рядам, хлопает по коленкам, рукам и спинам. Ничего у меня не получается. Даже ладонями отбить ритм, и то я не в состоянии. Но я дисциплинирована и, хоть и плачу, возвращаясь домой, снова и снова иду на кружок, и занимаюсь положенное время дома. Как самую бесперспективную, меня ссылают в задний ряд и избегают занимать в танцах для выступлений — единственное, чему я рада.
Проходит год или больше — меня вдруг замечают, и только поэтому я понимаю, что у меня что-то начало получаться. Но и тогда я далека от того мгновенного улавливанья движенья, когда девочки прямо за учительницей повторяют и дробь, и фигуру. По-прежнему я все беру через глаза — пальцем не двину, буду в уме отпечатывать: сначала движение ноги, потом бедра, руки, головы. Особенно много для меня значит движение локтя. Сам по себе он вроде бы и неуклюж, куда как изящней, хоть и вяловатая, в сущности, кисть руки. Зато какие траектории может описыватъ локоть в испанском танце! Кстати сказать, в испанском и кисть теряет свою анемичность — как много говорит каждый палец, может, и теряя в изящности.
Читать дальше
![Наталья Суханова Зеленое яблоко [СИ] обложка книги](/books/430595/natalya-suhanova-zelenoe-yabloko-si-cover.webp)








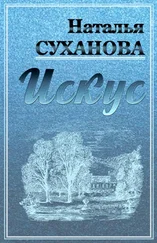
![Наталья Суханова - Анисья [СИ]](/books/430596/natalya-suhanova-anisya-si-thumb.webp)
![Наталья Суханова - От всякого древа [СИ]](/books/430598/natalya-suhanova-ot-vsyakogo-dreva-si-thumb.webp)