Параллельность, неслияемость моей собственной и социальной жизни в детстве поразительна. Как и положено в семействе, где послушание несомненно предполагается, я послушна. Все, что от меня этот неприятный, но непреклонный долг ожидает, я выполняю. Со мной ласковы — тоже, как мне кажется, из долга. Ласкова и я, и это не фальшивое притворство бесталанного лицедея — я вполне вхожу в роль. Растроганная мать сохранит с этого времени мои первые стишки: «Мамочка, мамочка, и как я тебя люблю». А как же! И папа тоже не просто папа, а папочка. Папочке стихов не досталось, зато уж ему-то распоряжений не надо повторять по два раза.
Между тем, когда роль отложена, я воспринимаю своих родителей как совершенно посторонних, случайно оказавшихся рядом людей. Они мне не нравятся, но мы уже притерпелись, взаимоосвоены, и если у меня и были когда-то другие родители, а я это смутно помню, то они наверное умерли, ничего не поделаешь. Я и дом наш не люблю, но когда мы изредка живем где-нибудь не дома, мне дополнительно нехорошо: ласки бесцеремонных взрослых, незнакомый туалет, раздеванье под посторонними взглядами, чужая кровать. И вдобавок «в людях» моя мать, возможно из-за того, что я замедлена, нерасторопна в незнакомом месте, начинает особенно неприятно командовать мной. Непонятно, почему я должна раздеваться при незнакомых людях, а она нет! Что они вообще скрывают под одеждой? Почему дети никогда не видят их голыми? Кто она вообще такая, что распоряжается мной? «Мы только знакомы».
Что касается отца, его работающую спину, когда он пишет свою диссертацию, я просто ненавижу. Но именно ей подражаю: вывожу и вывожу на бумаге каракули. Главное — превзойти его в сверхспинности: потише, пожалуйста, я работаю.
Во дворе я восполняю приниженную социальность в семье: маленькая и тощая, я держу двор в подчинении фантазиями, играми и сложной системой интриг, отличий и запугиваний. Вот только что я пресекла не мною выдуманную игру. И минуту спустя слышу, как мальчик моими же словами запугивает другого:
— Ты что-о! Сумасшедший, да? Совсем не соображаешь? Что ли, опилки в голове? Играть в стариков! Старики — ы!ы!ы! — согнутые! морщенные! Хочешь таким стать? Мамочки мои! Страх!
Впрочем, играм я и сама верю: камешек, которым «застрелили» меня, обрывал во мне сердце — не сразу доходило до меня счастье несовпадения игры и действительности.
Казалось бы, куда уж эмоциональнее. Но нет, во мне всегда оставался откуда-то из глубины равнодушненький взгляд, знающий, что все это ерунда. Третьей — не семейной и не дворовой — сутью, которую я ощущала все время, был холод, вечный холод, какой-то лед в сердцевине. Впрочем, и в коже тоже, во всей коже — душа моя еще не вычленялась из тела. Холод явно ощущался: как душевный, сердцевинный — и как физический, кожный. Холод или равнодушие? Я ведь и сама употребила это слово: равнодушненький взгляд? Да, равнодушие, когда я, как взрослая, наблюдаю откуда-то изнутри за детскими играми. Но если поглубже, это больше, чем равнодушие — холод. Лишь минутами потепление, не всегда и приятное. Приятно ли маленькое тепло льду? Чуть-чуть мокрости вместо ледяной сухости. За нашим домом и двором — другие дома и двор, там враги. Как бьется сердце, когда мчишься через тот двор в спасительной близости дома. Но тут же, одновременно: ну и что?
Зайдя к подружке, я поражена: в сравнении со всеми другими квартирами, которые я видела и которые — все! — вызывали во мне неприязнь, вдруг много белого: белые стены, тюль на окнах, пышные белые подушки, накидки, кружева — все какое-то воздушное, солнце в комнате разными белыми кусками, белое и солнце — замечательно! Но ведь тут же и тюкнуло отчетливо: не то!
Всегда не то. Чуть потеплело — и снова холод. Холод и то, что двуедино с ним — неудовлетворенность. У этого холода есть своя страсть. Тоже холодная, но неотступная. Навязчивое стремление: в одном взгляде, в одном представлении охватить — что? — явленный мир. Охватить или познать? овладеть? объединить? Точного слова не нахожу. Ведь и Адам — познает свою жену. Хотя теперь бы сказали: овладевает, или же — удовлетворяется ею. Но по тому, как много Бог придавал значения плоду с древа познания, как соединил он с этим стыд, соитие, рождение и смерть, сдается, что Адам именно познавал. Да, для этого много слов, но вернее всего, пожалуй: познать, изведать, постигнуть мир. И тут опять вопрос: мир, но какой?
Мир, постигаемый моими ногами, весь ограничен проезжей дорогой с одной стороны и соседним двором с другой. Поездки с родителями — конечно, другие миры, но все равно они те же, плоскостные, четко связанные маршрутом. Мои сущностные отношения, притязания, преодоления — с другим, к другому миру. Люди как люди отсутствуют в этом Мире миров. Отсутствую и я — как тело, ребенок, дочь. Я — пристальный, преследующий взгляд, вот что я такое. Я — зрение, чувствилище, оценщица и соединительница. А люди? Блики на них значат больше, чем они сами.
Читать дальше
![Наталья Суханова Зеленое яблоко [СИ] обложка книги](/books/430595/natalya-suhanova-zelenoe-yabloko-si-cover.webp)








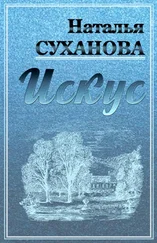
![Наталья Суханова - Анисья [СИ]](/books/430596/natalya-suhanova-anisya-si-thumb.webp)
![Наталья Суханова - От всякого древа [СИ]](/books/430598/natalya-suhanova-ot-vsyakogo-dreva-si-thumb.webp)