— Мне нужно переодеться.
— Я тебя подожду на лестнице.
Пока мы бегом спускались по лестнице, — лифта ждать нам было некогда, — он мне сказал:
— За пять минут ты мне соврала пять раз. Это рекорд. Что дальше? В минуту ты будешь врать мне дважды и трижды?
— Я не врала.
На улице он сказал:
— У меня пять минут. Я тебя слушаю.
— Не сейчас. И не в пять минут.
— Я понимаю — ты не получила инструкций.
— Какие инструкции? Ты мне не веришь?
— Да, я тебе не верю.
— Тогда нам не о чем разговаривать.
— О’кей! — и, спросив, в какую сторону мне идти, словно я не по его требованию вышла, он, отрывисто извинившись, ушел.
Все-таки я ему позвонила еще раз. Он потребовал, чтобы я говорила по телефону. И я, торопившаяся сказать и услышать (однако, как и шесть лет до этого уверенная, что торопиться и говорить не надо), — задыхаясь, заикаясь, минутами просто теряя способность говорить, — призналась, что люблю его, всегда любила, знаю, что много зла ему принесла, но это потому, что мне самой было очень больно, и я молчала бы и дальше, но боюсь, что мы потеряем друг друга, и еще я хочу знать: потому что если я не узнаю, с кем бы я ни была, он всегда будет тенью рядом.
Наверно, он мне поверил, потому что отвечал с задумчивой серьезностью:
— Я не знаю, Даша, любил я тебя или ненавидел, но это уже прошло.
— Совсем? — всхлипывая, откликнулась я.
— Это либо есть, либо нет, — сказал он, подумав.
— Что же ты тогда метался в прошлый раз, как сумасшедший? — продолжала выпрашивать я.
— Мне хотелось поймать тебя на лжи! Рецидив.
— Тима, только не ошибись. Я спрашиваю навсегда.
Он еще подумал.
— Нет, — сказал он твердо и грустно. — Нет. Мне очень жаль, Даша.
— Прости меня, Тима, за все эти годы. Прощай!
Я уже рыдала в голос.
* * *
Была сумасшедшая ночь. Я глотала какие-то успокоительные, снотворные, но, стоило мне шевельнуться, боль просыпалась — физическая боль души. «Что, что такое?!» — лихорадочно вскидывалась я. И вспоминала, что все навсегда кончено — мне уже не дано даже обманываться. Такой обычно самолюбивой, мне было совершенно наплевать, что будут обо мне говорить. Мне было безразлично и то, что в многолетней нашей борьбе с Тимуром победителем оказался он. Моя долгая серая жизнь последнего времени провалилась, но не к свету — в кромешную, безнадежную тьму. Не нужно доживать до старости — тебя уничтожают раньше. Вот, тебя уже нет, сколько бы ты ни жила после. И отрезвляющий свет нищей моей, без надежд, жизни был как холод на воспаленное страдание.
Так, в полусне, в полубреде, в пароксизмах отчаянья и отрезвляющем свете безнадежности тянулась ночь. Были, однако, припоминаю я, и какие-то странные островки, когда я даже не понимала как-то, что, собственно, случилось — безответственная беззаботность полностью обобранного человека, что-то веселое даже, сродни прозрачному и прелестному смеху Моцарта, но как часто бывает у него, вдруг протягивало холодом и все становилось странным, и — кто ты? и — что вокруг? Прозрачен воздух, но ты уже не ты и не здесь, и сладко, и мучительно ломит сердце, как зубы ото льда. Не то чтобы человек узнал наконец, кто он, но он вдруг знает, что не знает этого, — и горечь, и высота. И тут же укус ядовитый: нет в жизни для меня даже надежды, и снова надрывное страдание…
А проснувшись утром, я ощутила, что больше нет ни отчаянья, ни любви.
Осталась только загадка, что же произошло в забытьи меж той ночью и утром. Было как-то в детстве, меня уложили загорать на балконе: голова и часть спины в тени, остальное на солнце; ветерок проходит вдоль головы, спины, ног, у лица и плечей он прохладен, узко струится — и тепл, и медлен, и пузырчат на горячих ногах; в секунду проходит он вдоль меня, успевая на неведомой черте стать совсем иным… И однажды на грани меж ночью отчаянья и утром легла черта. В неведомый миг во сне она легла между мной и мной. Я была все та же, все помнила о себе, но не было больше во мне любви, которую в предыдущее мгновенье — перед провалом в забытье — ощущала неизбывной.
Я была свободна: не только от Тимы — от всей прежней жизни. И незнакомое, без цвета и запаха, не восторженное, не торжествующее, никакое, не нарастающее, не проступающее, сразу уже здесь (не став со временем ни ярче, ни понятнее, потом оно и вовсе отступит в тень) — совершенно отчетливое знание: что если в детство я пришла существовавшей до этого вечно, то только теперь я подлинно стала. К смерти это не имело никакого отношения, наоборот, смерть вроде бы даже нужна была действительности — но я вместе с миром с этих пор стала быть, и, имеющая умереть, от смерти уже не зависела. Такое вот оказалось вдруг знание — без выкладок и доказательств. Как на конверте с адресатами причин и следствий: Почему. Да нипочему. Кому. Да никому. А в личные руки мне.
Читать дальше
![Наталья Суханова Зеленое яблоко [СИ] обложка книги](/books/430595/natalya-suhanova-zelenoe-yabloko-si-cover.webp)








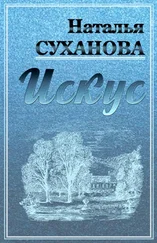
![Наталья Суханова - Анисья [СИ]](/books/430596/natalya-suhanova-anisya-si-thumb.webp)
![Наталья Суханова - От всякого древа [СИ]](/books/430598/natalya-suhanova-ot-vsyakogo-dreva-si-thumb.webp)