Но в том-то и дело, что я не верила в это, не верила, что мир движется, бытие продолжается, когда омертвела я. Потом, спустя годы, так было только в моей уже взрослой любви: я знала, что любима только пока любимый был рядом, являл любовь. В его отсутствие память была бессильна уверить меня, что и теперь он есть и любит. Сама любовь моя вне его присутствия существовала в каком-то обратном виде — она оказывалась ужасом потери жизни, безумной устремленностью к утерянному, у любви проступал обратный знак. Если она и была ни чем иным, как безусловным существованьем, то в отсутствие его она становилась обезумевшим небытием. Так и мы с миром в отсутствие друг друга впадали в небытие. А если иначе, если мир и без меня движется? Почему сызмала, сколько я себя помню, когда никто еще со мной и не говорил всерьез, а если бы и говорил, едва ли бы я поняла, откуда всегда был во мне этот глубочайший инстинкт, что я должна, уполномочена постигать и прорываться, что только со мною, во мне прорывается в новое, превращается Мир?
* * *
История моя с Тимой продолжалась годы. Память не сохранила всех подробностей. Но вот случай с уборкой коридора в школе помнится ярко. Какой это класс? Может, седьмой или даже восьмой. Надо же было, чтобы убрать и вымыть этот коридор поручили Вике Талеевой, Тимуру и мне. Тимур нам таскал ведра с водой. Потом унес и спрятал мою швабру и ведро. Было это издевательство или игра, не знаю. Меня из школы не выпустили бы, не сдай я вахтеру «хозинвентарь». Я уж и шутила, и всерьез просила, и сердилась, требовала. Тима только издевательски похохатывал:
— Нну? И что же? В самом деле?
— Ты же ничтожество! — крикнула я. — Трус и предатель! Пигмей!
Он бросился на меня с кулаками. Талеева едва успела встать между нами, с трудом удерживала его.
— Отойди! — кричал он на нее. — Я сейчас эту суку прикончу!
Была у меня подружка, еще чуть ли не с младенчества. Когда-то, до того, как мы переехали, мы жили почти рядом. Катриша, хорошенькая, бойкая, с детства обожающая всякое хулиганство. Довольно рано она стала встречаться с мальчиками, отнюдь не робкого характера. Она их называла «слюнт» или «конфетка».
В тот день она позвонила мне.
— Почему у тебя такой голос? — обеспокоилась она.
— Что нужно делать, когда тебя обзовут сукой?
— А ты не знаешь? Ответить так же или в десять раз хуже. Тебя научить или ты сама сумеешь? Впрочем, ты не сумеешь. Я сама с ним поговорю.
Через полчаса она уже докладывала мне:
— Как я с ним говорила? Не по-французски, разумеется. «Если еще раз!» — сказала я ему, а дальше все матом. «Из дому, если не хочешь больших неприятностей, лучше не выходи. Советую вообще запереться в туалете!» Ему еще и Слюнт позвонил, поговорил по-мужски.
Неделю Тимура не было в школе и даже дома — говорили, что он уехал к родственникам.
Откуда-то узнал о Катришином звонке Тимуру мой отец.
— Докатилась, — сказал он мне.
— Это стул, — буркнула я.
— Не понял.
— Ты же говорил: если тебя оскорбляют, хватай первое тяжелое, что под руку попадется. Это был стул, только потяжелее.
Больше Тимур меня не задевал, не обзывал. Но уж, конечно, и о дружбе между нами не могло быть и речи: ни для него, ни для меня.
Любила ли я его и тогда? Разумеется. «Возлюби врага своего». Кажется ведь, что Бог требует невозможного. Но требовало же что-то от меня в детстве, чтобы я совместила, охватила несовместимое. И в редкий миг, когда это вдруг случалось, как же это было великолепно. А Тимур… Даже когда я влюблялась в других, он все равно оставался где-то в глубине меня. Подлец? Но я не очень верила, что это так. А если даже так, что же, все равно я чувствую его приближение еще за квартал от него. И я всегда помнила мальчика на крыше хибарки, который смотрит из-под ладони на меня нежно и беззащитно. Он трус? А я отважна? Не физической же боли боялись он и я. Когда он упал со второго этажа в пролет лестницы и ему обрабатывали рану на голове, он ведь даже не охнул и упрямо не ложился на носилки. Унижение, издевательство, надругательство страшнее любой боли. Он, может быть, лучше меня знал, что это такое. «Смотри, как он расчетлив», — говорили мне. Да, он скорее готов отказаться, чем рискнуть. Потому что, догадывалась я, он страдает от унижения, даже малого, даже смешного, годами, и все сделает, чтобы избежать этого страдания неостывающей памяти. Я бы, правда, не опустилась, как он, до того, чтобы быть со стаей, с толпой. Но существовало такое унижение, которого и я боялась больше смерти, как больше смерти боятся пытки. Унижающих я бы расстреливала. Потому, что они хуже убийц. И потому, что я слабее их.
Читать дальше
![Наталья Суханова Зеленое яблоко [СИ] обложка книги](/books/430595/natalya-suhanova-zelenoe-yabloko-si-cover.webp)








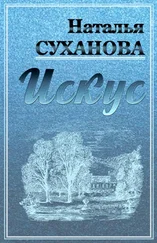
![Наталья Суханова - Анисья [СИ]](/books/430596/natalya-suhanova-anisya-si-thumb.webp)
![Наталья Суханова - От всякого древа [СИ]](/books/430598/natalya-suhanova-ot-vsyakogo-dreva-si-thumb.webp)