— Тима и Саша! Дрались! Из-за кого! Поповой! Господи, нашли из-за кого! Представляете?! Попова!
Со мной не разговаривали. Меня только окидывали презрительным взглядом. Девочки намочили холодной водой платки, ухаживали за Геворкяном. Тимур огрызался, когда к нему приставали с вопросами.
Но уже на следующей перемене он подошел к Геворкяну и попросил прощения. От меня же, когда я подошла к нему, отвернулся. Его окружили девочки и что-то говорили обо мне, и смеялись презрительно. И он смеялся вместе с ними, издевательски поглядывая на меня. Он не любил противопоставлять себя общему мнению.
Да, в тот день, когда он дрался за меня, он тут же меня и предал, не устояв перед напором общественного мнения.
— Он же трус и предатель, — сказала мне Лена Привалова. — Ничтожество. Ко всем подделывается — боится быть самим собой.
И мне приятно было. Мне нравилось, когда о нем говорили уничижительно. Унизив его, я испытывала торжество. Слишком долго, слишком больно приходилось мне от него. Только «доставая» его, я испытывала облегченье: ему тоже больно. И уязвленный во всяком случае не равнодушен. Когда однажды я почему-то вошла к ним в подгруппу по математике, а он вдруг бросился на меня с криком: «Убирайся! Здесь не твоя группа! Убирайся отсюда!», так что несколько мальчишек едва могли его оттащить, я была ошеломлена, но и торжествовала: такая ненависть стоила иной любви.
Боли было тогда так много.
Не знаю, что было бы со мной в это время, если бы не музыка. И не то чтобы она искупала боли и несообразности жизни, не только не искупала, но и не заслоняла — она лишь очищала их: очищала Тиму, меня, грязную в своей отгороженности и даже героической жажде искупления. Чистой и горькой была музыка, и иногда возносила. Но музыка же и возвращала меня к антиномиям.
Как когда-то с картинами Брейгеля, уходя от первого перехвата дыхания — в глубь, вычленяя линии, инструменты, фрагменты, я переходила от открытия к открытию. То я улавливала «божественный звук» в сочетании баса и альта, то тончайший переход от фа к ми. Одна и та же вещь у разных солистов, дирижеров, оркестров всякий раз была уже другой. Я слушала, как одна скрипка передает тему другой, флейта — фаготу, и восторг пронизывал меня. Но фрагменты разрастались, делались соразмерны целому — уже превышали его. Я углублялась дальше, вычленяя ход, интонацию, оттенок. И вдруг теряла все, как старуха, которая каждый раз хотела большего. Только я-то не большего, я хотела постижения все меньшего — и вдруг теряла все. Нужно бы вернуться к началу, к тому первому мгновению, открывшему мне целостную гармонию. Но я знала, что никогда уже не услышу вещь, как впервые, — отдельное возвышалось над общим, заслоняя его.
Я пробовала и сама писать музыку:
О, кружись, карусель, о, кружись…
Мы поем или миру поется?..
Мы в слезах или плачется миру?
Мне хотелось показать в музыке хаос — и молниеносное сложение божественных фигур с молниеносным же их распадением. Ведь каждый же раз молниеносно, мгновенно! И если в ту снежную весну мгновение растянулось на дни, то лишь потому, может быть, что все существо мое устремлялось, разворачивалось во времени со скоростью почти что света. Я сочиняла, нащупывала гармонию, ритм, и что-то у меня получалось, но при попытке записать все — разрушалось. Инструменты и ноты играли со мной в изнурительную игру. Я знала: диапазон у виолончели такой, а у фагота такой, но я-то слышала их вместе, нерасторжимо. И нужную ноту я слышала во всей клавиатуре и даже между клавиш. Теперь мне была понятна рассеянность музыкантов: слышишь и не поймешь. Усилие, бессилие. Невозможно было уловить точное место звука в клавиатуре, не потеряв при этом импульса — совсем как в квантовой механике, но там-то это как-то объясняется — воздействие прибора, что ли…
Отец ворчал:
— При чем тут прибор? Нужно философией заниматься. Простейшая диалектика: тело одновременно находится в этой точке и не находится в ней — остановив его в точке, мы теряем движение, а может, и само тело. Нота — то же самое, что частица: она или движется, или ее нет, и если клавиатура останавливает движение… Понимать же надо! Сальери у Пушкина: «Звуки умертвив, музыку я разъял, как труп».
Но разве, двигаясь в музыке от общего к частному, я умертвляла? Каждый фрагмент жил все более глубокой жизнью, и иногда мне казалось, стоил общей, охватывающей, гармонии. Да и то ли было охватывающим, Вселенной: общее, мировой финал, высшая гармония? Было у меня однажды нечто вроде озарения: не общая гармония вмещает фрагмент, а как раз фрагмент — каждый раз по-новому — общую гармонию! Ведь это только арифметически, пространственно Вселенная включает меня, музыку, Тиму. По-настоящему это я заключаю во всей распирающей антиномичности Вселенную, музыку, хаос, Тиму, себя. И это уж такое распирание, такое кипение, что покоиться никак не может. Так что высших гармоний столько же, сколько людей. И оттого-то это все движется. Но почему, но зачем? Не проще ли одна, всех воедино сводящая истина, мировой финал и «славься»? И другое: а что, если человек не вмещает? И снова немощь. Немощь слышать одновременно гармонию общую и фрагменты. Одна нота пронизывала, нанизывала клавиатуру. Я искала точку — она оказывалась миром. Я искала Вселенную — она уходила, стягивалась в точку, и мир проваливался, отсутствовал, немотствовал. И меня не было. Все звуки лгали, длилась немота. Ах, да что за важность, что я немощна, отсутствую, говорила я себе, бодрясь, — делов-то куча: не пропадут без меня миры, все будет идти своим чередом.
Читать дальше
![Наталья Суханова Зеленое яблоко [СИ] обложка книги](/books/430595/natalya-suhanova-zelenoe-yabloko-si-cover.webp)








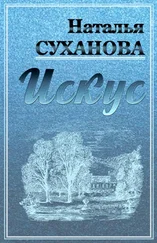
![Наталья Суханова - Анисья [СИ]](/books/430596/natalya-suhanova-anisya-si-thumb.webp)
![Наталья Суханова - От всякого древа [СИ]](/books/430598/natalya-suhanova-ot-vsyakogo-dreva-si-thumb.webp)