Был ещё один давний вопрос. Не вопрос — вопросы: его — о смерти, жестокости, страданиях, и её — о его тяготении обнажать снова и снова жестокое, а то и противное. Почему для него так важно это ворочанье в силах неприятных, тошных? Даже привычно приятные у него частенько оказывались неприятными — уж очень, предельно сильными. Он упорно останавливал её взгляд на тяжёлом, неприятном, на том, от чего хочется отвернуться.
Кажется, первое, что он рассказал ей из своего прошлого в детстве, что было с ним и с котёнком, с матерью и отцом — до четырёх, до семи его лет. Где вы были от четырёх до семи? Да вот — в блевотине людской. Терпимо ли в блевотине? Запах, знаете, резкий — кислый, портвейновый, с луком ещё. А так — не то что хорошо, но претерпеть и отодвинуть можно, даже нужно.
Она не понимала, чего он хочет, рассказывая это, но прижимала к себе его голову. Не очень-то он был здоров, этот сын героя войны. Однажды, придя к Джо, чтобы всем вместе куда-то идти, Влад вдруг поспешно вышел, не сказав им ни слова. Время шло, а Влада всё не было. Они встретили его на полдороге. «Что случилось? — кинулась Ксения к нему. — Куда ты ходил?» — «А, позабыл… вспомнил, сбегал», тут же переводя разговор на другое, пробормотал Влад. Лишь спустя время, она узнала, что у него бывают провалы сознания — не то последствие контузий или пьянства отца-героя, не то травмы ещё во чреве матери, когда напившийся до белой горячки Герой бил сапогами в живот свою любимую беременную жену.
— Вот как вы думаете, систер, — говорил Влад, — слеза ребёнка, котёнок, которому ангелы-дети, любознательные естествоиспытатели, бросают в яму хлебный мякиш с иголками, материна голова в разлитом дерьме — что это, как, сестрица Ксанта, мудрая моя? Что это всё? Шестов-то прав, вкупе с Иваном Карамазовым? Что за счёт у Господа Бога: гармония, парадиз в расплату и утешение. А память? Память стирается? А то ведь, пожалуй, затошнит, как от селёдки со сладким молоком на запивку. Это уже что-то из странной заповеди: «Не варите барашка в молоке его матери». Так варят же! Сначала насилуют женщину или собаку, еврейку или мусульманку, потом в газовую камеру или под нож, если со жратвою плохо. Безотходное производство. Слушайте-слушайте, не затворяйте слух!
— Что это было? — тогда думала, теперь спрашивала Ксения. — «Крик свой спрятать в мягкое, женское»? Или первый кадр Бюнюэля к «Андалузскому псу» — разрезаемый глаз? Для неё непереносим был даже не кадр, а то, что корове ли, собаке ли (не муляж же это), для того, чтобы подвести зрителя к ожогу, к самому краю — вырывают, режут глаз. И забиваемые лошади в «Андрее Рублёве».
Не желаете видеть, многочистые? А знать? Да, есть. Да, забивают и едят, питаются. Но когда и для искусства ещё!.. Не выношу! И в «Спартаке» — кресты-распятия. И польский фильм, где садят людей на кол. Но уж тогда воспроизводите и вонь, и вой, и гогот. Да, Астафьев говорит о ненависти к войне и пишет о её жестокости. Но это слово — слово и должно свидетельствовать. Но не изображение. Изображение ближе к плоти, но дальше от сострадания. Разве сострадание и вину чувствует Раскольников? Отвращение. Уплощение жизни.
И почему, почему именно эти воспоминания, образы, мысли владеют им? Какой дед у него был — но о нём ни слова. Да и сам Влад духовен и светел. Так почему об этом ни памяти, ни слова?
В ту пору говорили они и о смерти. Первым, кажется, заговорил о смерти Джо:
— Каждую ночь у меня страх смерти. Началось это с развлечения — с какой-то стати я представлял своё мёртвое тело на похоронной машине. И вдруг я понял, что смотреть некому будет — ещё будет тело, но я уже ничего не увижу. И тело уже будет не моё. И уже нигде не будет меня. Как старики могут так спокойно жить? Чем больше люблю жизнь, тем страшнее. И эти детские сказочки Льва Толстого!
— В чьих-то мыслях ты будешь.
— Не я — воспоминанья обо мне. Моей живой мысли уже не будет.
— Мысль не останавливается, — странно сказал тогда Влад. — А вы, систер, не боитесь смерти?
— Как?
— Вами владеет смерть?
— В бомбёжки боялась.
— Испытываете ли вы постоянное присутствие смерти — с вами, в вас? Потому что всё остальное без смерти — только ты с нею, наедине. Как тень, она всегда рядом.
— Нет, не испытываю. Почему? Не знаю. Может, потому что Мир мне интереснее, чем я.
— Но человека не будет, и кто познает Мир?
— Мир тоже себя познаёт.
— Однако, не богаче ли возможностей вслепую комбинирующей Природы нежели возможностей Сознания в творении-претворении Мира?
Читать дальше
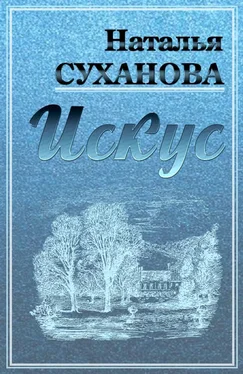







![Наталья Суханова - Зеленое яблоко [СИ]](/books/430595/natalya-suhanova-zelenoe-yabloko-si-thumb.webp)
![Наталья Суханова - Анисья [СИ]](/books/430596/natalya-suhanova-anisya-si-thumb.webp)
![Наталья Суханова - От всякого древа [СИ]](/books/430598/natalya-suhanova-ot-vsyakogo-dreva-si-thumb.webp)