Она спрашивала у него:
— Как ты пишешь? И с чего ты начинаешь двигаться — со случая или с названия… ну, ты меня понимаешь.
Ещё недавно, в Джемушах такой вопрос казался невозможным. Когда однажды — наверное, года полтора назад — Влад попросил её дать прочесть что-нибудь из того, что она пишет, Ксения съёжилась от невозможности преступить внутренний запрет — даже для него, для него ещё больше, чем для кого-нибудь другого. Пишешь для далёкого — не для близкого. Сокровенно, как сокровенен в беременности ребёнок, всё зыбко ещё, полу-есть, полу-нет. Неверное слово, один нескромный взгляд — и растаяло, улетучилось. А Влад неожиданно сказал тогда: «Уважаю это в вас». Она знала, что он тоже пишет, и никогда не спрашивала — что. Даже не знала, стихи это или проза. А тут, в Облове, когда Влад купил за 78 копеек «Аналитическую геометрию», чуть не в тысячу страниц, радостно завопила: «Что ты собираешься писать? Или ты уже пишешь?» Со счастливыми глазами охлопывая свою добычу, он объявил: «Пьесу о Пифагоре, за которой последует пьеса о Сократе. Но ещё до этих пьес надо оформить теорию».
«Как ты пишешь?» — спрашивала она у него, и: «С чего ты начинаешь писать — со случая или названия?» Господи, с чего угодно можно ведь начинать, но она почему-то спрашивала именно так. И он отвечал сразу на два вопроса:
— Прежде всего — нет, не название. Хотя до названия у меня никогда нет начала. А вот это, зимнее — полуявь, полугрёза, не образ даже — ощущение. У меня нет явных зрительных образов. Я вижу и чувствую словом (и ведь действительно словом рисует!). Золотая луна и светящейся черной изогнутой волной — зигзагом — очертание двугорбой Малой горы. Зигзаг. И по этому зигзагу — я как бы на лыжах скольжу. Сначала я думал, это будет что-то лирическое. Но ведь у меня чистая лирика не получается. Да и скучно без людей. А люди у меня всегда гротескные. Вот были мы на Медовой, на скальном клюве её. И под нами, и перед нами листва крон. Великолепная природа. Но кто у костра? Я ведь и разговоры, и смех слышу, и заливистые перебивы сестрицы Ксанты. Вижу и фюмесову рожу Джо, и твою мордашку, и блестящую, как биллиардный шар, голову Алёши. Костёр на скале. Внизу туман. И на туман падают тени. Великолепно? Но тени-то чьи? А вот тут и начинается гротеск. Но это всё ещё было отрывками, в полусне…Только уехав из Джемушей, я понял, какой материал остался позади. Но пока не мелькнуло название «Верхом на палочке», ничего слитно ещё не было. Вот что ты представляешь при этом названии? Мальчишку, да? А если это не мальчишка, а взрослый? Это весело и издевательски. И есть ещё контекст — тот зигзаг, и горы… Но вот идея, замысел… Идея мелькнула в том разговоре с Джо, в комнатушке, — ты помнишь? Что-то о Рубинштейне, философии, экзистенциализме. Что-то о первичном и вторичном. Вроде анекдота о цапле и лягушке: «циркулируй, сволочь, пока не сдохнешь». Или о мухе и птичке, так же замкнувшей путь мухи в вечный круг — «вечный кайф». Что-то вроде этого. Анекдоты даже упоминались. Но нужная мысль в идеальной форме ушла. Да, что-то о первичном и вторичном, об идеальном и материальном… Что-то парадоксальное. Потому что ничтожна та гармония, в которой нет парадокса. Потому что парадокс — это «эврика!» Потому что неожиданно. Потому что — минуя причинно-следственную связь. Потому что невероятно, но есть. Потому что Бог потому и Бог, что пути к нему не в логике. И не в религии.
— Ну, хоть один пример парадокса.
— Вот. Человек очнулся среди безмерной пустоты: «Кто-нибудь тут есть?!» И пустота откликается: «Ты!»…
— То, что ты пишешь, стихи или проза?
— Драма. Независимо от жанра. Драма — это конфликт и диалог. Пьеса — это вторичный смысл, жанровый. И, между прочим, дословно от греческого — действие. Действие, да ещё какое действенное. В теперешнем, сдвинувшемся мире, в сломе, произошедшем в сознании, в познании, в науке, философии, в драме идей в физике, математике, другой становится и литература. Последние два века — яркое тому свидетельство. У Розанова, у Бердяева драмы нет. В философии драма у Платона, у Зенона, у Пушкина, Декарта, у Гегеля, Канта, у Шестова. У Мамардашвили — он сумел «подвесить» сознание во Вселенной. Он сделал то, над чем бился Шестов, но возвращался к своей исходной мысли; временами ему удавалось, но уж очень с перехлёстом, с затуманиванием была его мысль.
— Как у тебя. Но ведь было много уже им сказано…
— Сказать, знаешь, можно. Вот и Вернадский прекрасно сказал: «Сознание космично». Ну и что? И камень космичен. Уникальность сознания со всем сонмом его противоречий — вот в чём суть. И о чём диалог. Помнишь у Гуссерля: «Человек есть бытие, посредством которого Ничто приходит в Мир». Хайдеггеровское Ничто.
Читать дальше
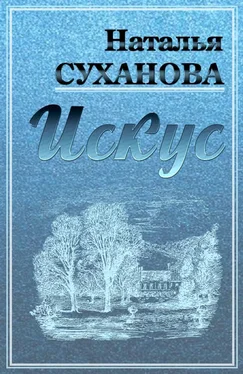


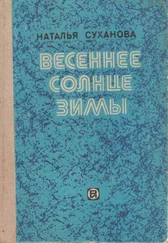
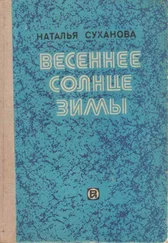
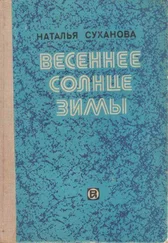
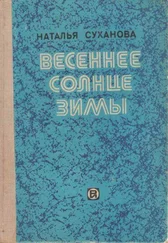
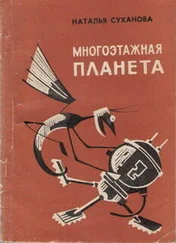
![Наталья Суханова - Зеленое яблоко [СИ]](/books/430595/natalya-suhanova-zelenoe-yabloko-si-thumb.webp)
![Наталья Суханова - Анисья [СИ]](/books/430596/natalya-suhanova-anisya-si-thumb.webp)
![Наталья Суханова - От всякого древа [СИ]](/books/430598/natalya-suhanova-ot-vsyakogo-dreva-si-thumb.webp)