Милка слушала очень внимательно и вздохнула с облегчением:
— Ах, вот оно что! — к себе Милка относилась критически, и все-таки (а может — тем более) тяжко переносила броскую привлекательность других женщин. — А отчего у нее такая синяя рожа?
Даже это умудрилась рассмотреть Милка на темной лестнице — видно, уж очень поражена была духами и шубой.
— Что ни говори, а элегантности мне не хватает, — с мученическим выражением лица сказала она часом позже. — Ты, Сенька, не смейся. Мне бы плевать на эту самую элегантность, если бы она у меня была. Я не терплю, когда у меня чего-нибудь нет и быть не может.
— Нельзя же все иметь. Если ты, например, не можешь быть великим ученым…
— Ну, это меня как раз не волнует. Это чепуха. Это бы я могла, только не хочу.
Очаровательно легкомысленна была Милка, а ведь только на привлекательность и могло опереться ее легкомыслие — жизнь у нее была совсем не легкая и под внешней беззаботностью скрывалось и мужество, и здравый смысл.
* * *
К Марфе Петровне приехал на побывку из своего разрешенного места жительства муж. Он оказался невысоким, интеллигентным, вежливым в обращении человечком. Дотошно расспрашивал Ксению о системе обучения юриспруденции, сетуя, что обучение стало поверхностным. Марфа, насмешливость которой переключилась на мужа, усмехнулась:
— Тебе твое глубокое образование помогло?
— Безусловно, — твердо ответил человечек.
— Скажите, — решилась и Ксения на вопрос, — это правда, что арестованных бьют?
— Меня не били.
— Очки разбили, только и всего, — комментировала Марфа. — Случайно. Так что он собственных ботинок найти не мог.
Взгляд ее был снисходителен — словно перед ней был ребенок, на которого она зря понадеялась, как на опору.
Муж Марфы был очень любопытен Ксении, она только боялась поддаться его чувству правоты. И как-то не находила, о чем его спросить — мешала собственная настороженность и еще, пожалуй, готовность этого человека, глядя прямо в глаза, ответить на все ее вопросы.
«Контрики» вообще занимали последнее время Ксению.
Какие-то, ещё детские, сомнения — все ли хорошо в королевстве Датском? — впервые возникли во время войны: что-то насчет врагов в самом генералитете или даже и выше, что-то насчет шпионов, проникших в следственные органы, рассказы о том, как эвакуировали госпитали в Джемушах. Потом — тот же Ким, о том, что Маяковский не покончил с собой — его убили. И вот уже наяву, в жизни — «контрики». Их оказалось вокруг неожиданно много.
Полгода вел у них семинар преподаватель истории партии, дотошный и придирчивый. Ксении он снизил отметку за перенос со строки на строку фамилии вождя, а также за то, что она написала «тов.», а не полностью «товарищ Сталин». Бдительность преподавателя была беспредельна. И вдруг он исчез. А чуть позже Петя Уралов по секрету объяснил, что бдительный преподаватель оказался не то шпионом, не то врагом народа. Наверное, так, думала Ксения, враги и должны прикрываться «сверхбдительностью».
Возвращаясь из института, Ксения каждый день проходила мимо еврейского театра, но так и не собралась сходить туда. Теперь еврейский театр был закрыт — там, оказалось, свили гнездо «контрики».
Бывший мамин пациент, старый армянин-инженер, оказался в прошлом эсером и не скрывал этого. Его даже посадили в тридцать восьмом году, но жена пошла в приемную Сталина и передала письмо, прося за мужа, когда-то начинавшего в одном кружке со Сталиным. Оганеса Ашотовича освободили и больше не трогали. Политические страсти, однако, так и остались главными в его жизни. Все вечера проводил он переворачивая кипы газет. Особые надежды возлагал на Югославию — потому, наверняка, что она пошла вразрез со Сталиным. Сталина он не уважал, хотя и был ему обязан жизнью, считал, что тот из честолюбия уничтожил не только лучших людей, но и саму память о них. Говорил, что в немногие встречи с немногими оставшимися в живых соратниками спрашивают они друг друга: об этом они мечтали? За что боролись? — и ни один из них не говорит «да». Не получилось по-ихнему, вот и не нравится, объясняла себе Ксения. А вслух спрашивала: «Вы не боитесь все это мне рассказывать, Оганес Ашотович?». «Не-э, — хитро прищуривался он. — Я таких макак, как ты, вижу с первого взгляда. А кроме того, я уже ничего не боюсь, я свое отжил. Мне бы только чего существенного не пропустить, оттого в газетах роюсь, между строк читаю».
И наконец, Людвиг — не только высказывал явное презрение к соцреализму, но и о советской власти говорил, что все это уже было, только называлось раньше восточной теократией, в доказательство чему демонстрировал желтую от старости книжку «Идеологии Востока». В этих древних восточных империях, говорил Людвиг, и государственная собственность на землю существовала, как в большевистской России, а в некоторых и сплошная крестьянская собственность, рабство там было невыгодно, так как земледелие в тех условиях требует интенсивной работы, но крестьянин, естественно, был голоден и бос, потому что вся его так называемая собственность поглощалась налогом или оброком, как бы это ни называлось. «Вечностью не обладает никакая теократия, — цитировал Людвиг, — но это все-таки самая крепкая идеология, самая устойчивая, обладающая наибольшей способностью отрыва от действительности и существовавшая до последней возможной минуты на трех китах: чуде, догме и терроре».
Читать дальше
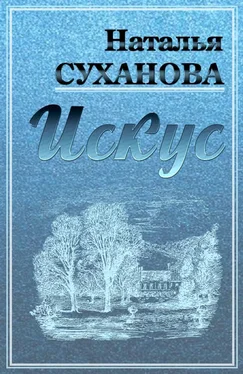


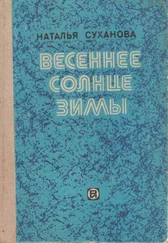
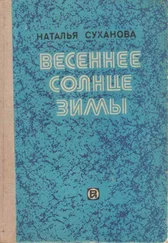
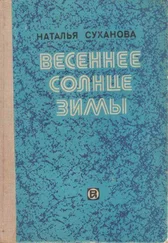
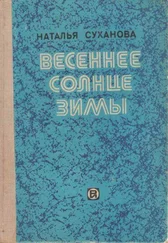
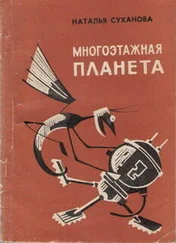
![Наталья Суханова - Зеленое яблоко [СИ]](/books/430595/natalya-suhanova-zelenoe-yabloko-si-thumb.webp)
![Наталья Суханова - Анисья [СИ]](/books/430596/natalya-suhanova-anisya-si-thumb.webp)
![Наталья Суханова - От всякого древа [СИ]](/books/430598/natalya-suhanova-ot-vsyakogo-dreva-si-thumb.webp)