В ликующих голосах тонет одинокий скорбный голос Бога.
Какое-то время люди еще живут верой. Но затем снова, как Иов, сначала робко, потом все настойчивее, вопрошают. Бог ограждает себя огнем, сиянием, величием, а смиренный, как червь, Человек все же просит:
— Не ставь между собой и мной меч… Дай говорить к Тебе… Удали от меня руку Твою, и ужас Твой да не потрясет меня… Дай говорить к Тебе!
На этот раз Бог отвечает вполголоса, ибо то, что скажет он людям, страшнее грома и пламени:
— Чего хотите вы от Господа своего, если преступили его заповедь, самую первую: не вкушать от древа познания? До греха вы были счастливы. Вы, и умирая, не знали, что это смерть. Теперь вы умираете столько, сколько живете, ибо познали смерть и мысль о ней не оставляет вас никогда.
— Но разве мы не искупили свой грех страданием? Разве не исправили содеянного?
— Этого исправить нельзя. Вот вы спрашиваете, зачем то и зачем это. В каждом цветке и в каждом плоде теперь этот червь. Каждый миг вашей радости и каждое мгновение жизни отравлено вопросом. И нет на него ответа. Ибо нет в запредельном вам мире ни вопросов, ни ответов. Глух, равнодушен и мертв мир.
…Уже возле дома придумался Ксении еще один поворот: «Во многом знании много печали» — не Екклесиаста, а Бога это слова! И когда Бог говорит: «И вот они отведали от плода познания и стали, как мы» — в этом не ревность, а скорбь. «И стали, как боги, несчастны», — хочет он сказать. Но Бог все же сострадает людям — именно потому он хочет убрать от них хотя бы древо бессмертия. Знать, как бессмыслен мир, и жить вечно — пусть эта иссушающая скорбь останется уделом богов!
И раз, и другой, просыпаясь среди ночи, Ксения вместе с Богом искала и находила новые опровержения человеческих надежд на смысл — и, найдя особенно удачное, особенно едкое, засыпала со счастливой улыбкой.
* * *
Всякий раз, застав на кухне Матильду, Ксения внутренне сжималась. Лицо больной, иссохшее, бледное, еще и сейчас было красиво, но пугал лихорадочный взгляд. Впрочем, ни Люсю Андреевну, ни Фадеевну глаза Матильды не пугали. Возможно, Матильда и не смотрела на них так, как на Ксению.
В редкие посещения Матильдой кухни там всегда шел оживленный разговор.
— Мужа из гроба не подняла, — бодро говорила Люся Андреевна. — А себя довела.
— Дура была! — слабо и безнадежно восклицала Матильда.
— А то умная? — с радостной суровостью подхватывала Люся. — Помри ты раньше его, он бы за тобой на кладбище не побежал! Мужик себя гробить не станет!
— Бежала на кладбище, каждый день бегала, на могиле лежала. А теперь уже повезут, — сиплым эхом отзывалась больная.
— А ведь говорили: «Отвлекись, Матильда, его уже не поднимешь, не казни себя!». Сколько раз в кино, в театр тебя звала, так ты и слушать не желала.
— Думала же, без него и света не будет. А теперь — вот…
Она протягивала перед собой обтянутые кожей кости рук, смотрела на них с жалостью и удивлением. И — снова:
— Дура, дура я была! — и с ненавистью — Он бы не побежал, нет!
Ксении эти разговоры представлялись верхом безнравственности, как если бы чудом оставшаяся в живых Джульетта не только страстно захотела жить, но и возненавидела саму память о Ромео, сделавшую ее инвалидом.
В целой квартире не на ком было взгляду остановиться. Сердясь на них за бытовую приниженность, Ксения окрестила их по-своему: «Кривоногая Грация» — Люся Андреевна, «Вислогрудая Мощь» — Марфа Петровна, «Проклинающая Преданность» — Матильда, «Благожелательная Тупость» — Фадеевна. «Истеричная Наглость» и «Коренастая Добродетель» — под этими названиями шли у нее дочки Фадеевны: Валентина и Раиса.
Милка, встретив Валентину на лестнице, была потрясена: распахнутая заграничная шуба, неприкрытые волосы, надменное лицо, невероятные духи.
— Кто это? — спросила Милка, еще не опомнившись.
— Дочь Фадеевны.
— Ты же мне показывала какую-то замухрышку!
— То другая дочь.
— Чем она занимается — эта?
— Катается на катке с иностранцами.
О том, как в квартиру приходил дворник-татарин и кричал Валентине: «Какой доход живешь? Что работаешь? Чем одеваешься? Буду милиция заявлять, выселять будут», а та истерично орала в ответ: «Иди доноси! Там тебя знают, а меня еще лучше» — Ксения рассказывать Милке не стала, хотя и очень любопытно все это было. Зато она представила в лицах, как вечерами на кухне, согрев чайник, голая по пояс, окатывается Валентина поочередно то холодной, то горячей водой, и, будто тараканы на сахар, на это зрелище выползают к дверям кухни либо Кока, сын Люси Андреевны, либо ее молодой муж. «Занято», — говорит Валентина, но даже не оборачивается. Хрипя от волнения, Кока начинает буровить что-то насчет общих пляжей на Черноморском побережье. Если же это не Кока, а его отчим, то разговоров никаких нет — молодой мужик просто курит и смотрит. Заподозрив неладное, выкатывается Люся Андреевна. Застав в дверях Коку, отшвыривает его. Если же это муж, он сам не спеша уходит, а Люся Андреевна хватается за чайник и грозит обварить Валентину. Огрызаясь, Валентина заканчивает свой туалет. Наутро достается за дочь уже Фадеевне. «А я ей указ, бесстыжей? — спокойно пожимает плечами Фадеевна. — Не, из Москвы не выселят». И Люся Андреевна тоже, видно, знает, что Валентину не выселят из Москвы.
Читать дальше
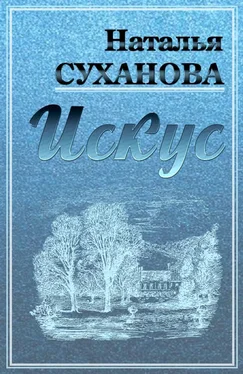







![Наталья Суханова - Зеленое яблоко [СИ]](/books/430595/natalya-suhanova-zelenoe-yabloko-si-thumb.webp)
![Наталья Суханова - Анисья [СИ]](/books/430596/natalya-suhanova-anisya-si-thumb.webp)
![Наталья Суханова - От всякого древа [СИ]](/books/430598/natalya-suhanova-ot-vsyakogo-dreva-si-thumb.webp)