Прав он оказался с Щипачевым. А уж как спорила! Людвиг только улыбался ее пылкости, даже упрек в старомодности его вкуса принял с улыбкой. А перечитав дома Щипачева, Ксения вдруг поняла, что это в самом деле плохо — не потому, что неправда, а потому, что очень мелкая, какая-то однобокая правда, как раз вроде мелкой разменной монеты, строки о которой декламировала Ксения с особенным пафосом. И с Гойей он оказался прав. И с Серовым.
И с «Мадонной Сикстинской». Прав оказался, что это прекрасно.
— Вот вы говорите, — сказал ей в тот раз Людвиг, — прошлое отжило (разговор о религии, которая не представлялась Людвигу ни вредной, ни безобразной). А я смотрю на Сикстинскую мадонну и, — Господи Боже! — чего мне еще? Лучшего уже не будет — живи человечество хоть миллионы лет. Бог с вами, пишите сталеваров и манговые деревья — это уже просто не нужно.
— Что за Сикстинская мадонна?
Людвиг оторопел:
— В-вы в самом деле не знаете Сикстинской мадонны? Нне слышали? Иногда я вам страшно завидую. У вас столько впереди!
Он полез было в книжный шкаф.
— Впрочем, что же я, — сказал он, — то, что у меня есть, не хуже этих репродукций. Когда я, раненый, вернулся домой, в Москве можно было приобрести удивительные книги и даже картины. Немного, п-правда, затянув ремень. Но я легко переношу недоедание — это одно из немногих счастливых моих свойств.
Меж двумя комнатами, разгороженными из одной большой, был темный проход. Впервые Людвиг зажег здесь свет, и Ксения увидела маленькое помещение без окон. На стене, занимая ее почти целиком, висела картина: босоногая, с кротким лицом женщина ступает как бы под гору, хотя земли под ее ногами нет. Она прижимает к себе младенца с недетским нахмуренным лицом. Снизу на женщину задрали головы пухлые ангелочки, сбоку кокетливо потупилась нарядно одетая женщина, с другой стороны взирает простодушный старик в покривившемся пышном одеянии.
— По преданию, — сказал Людвиг, — Рафаэль рисовал эту Мадонну с молочницы, жившей на той же улице, что и он.
— Она правда похожа на молочницу, — без злого умысла ляпнула Ксения. — На загипнотизированную молочницу.
— Вы огорчаете меня, — покачал головою Людвиг. — Впрочем, такие вещи не воспринимаются сразу. О Мадонне не буду говорить, но посмотрите, какая композиция. Ваш взгляд не сразу останавливается на Мадонне, он скользит по кругу этих фигур вслед за их взглядами, пока не доходит до преданного взора старика и не обращается, уже внимательно, к ней…
Людвиг ушел. Что ж, как следует посмотрев, Ксения приняла эту картину, хотя ей и очень мешали ублаготворенные рожи со всех сторон: жирные ангелочки, жеманная женщина, растроганный старик. Ксения поняла — все дело в глазах Мадонны и младенца, которые совсем не на вас смотрят, как кажется вначале. Что же видит женщина, что рука ее не столько прижимает, сколько отдает дитя? Что видит младенец, что уже он не с матерью и лицо его скорбно и гневно, и радостно в то же время? Радостно или яростно? Одно и то же. И сосредоточенность, и гнев, и ярость отдают радостью. Нет, это не кроткий Иисус. Все — в этих двух лицах.
Картину она приняла. Но не Людвигово: «Что еще нужно? Лучшего уже не будет!». Что еще нужно?! Да, смысл, смысл нужен! Нужно знать, зачем это все: и Сикстинская Мадонна, и Людвиг, и человек с красными ступнями, и громады миров. Неужели искусство — опиум, который делает людей блаженно-бездумными?
Она принесла Людвигу свои стихи — о бесшумных громадах вселенной и о ничтожном человечке с красными ступнями. Торжественные строфы о том, как сближаются, разрастаются миры безмолвным пламенем. И строки дерганные, учащенные — крик, мельтешение, боль человечка. Рефреном шли красные ступни, красное солнце, красное пламя, красная линия спектра — случайная нить, соединяющая громадность и малость, беззвучие и крик, равнодушную гармонию и отчаянные бессмыслие и смерть.
— Один наш студент написал, — соврала она.
Людвиг сказал, что это любопытно и очень напоминает какого-то незнакомого Ксении поэта. Кроме того, заметил Людвиг, эти стихи, которые по-видимому нравятся Ксении, подтверждают то, что отрицала она недавно.
— Что именно?
— С-смерть делает бес-смыс-сленными усилия человеч-ческой жи-жизни. Об этом, со-собственно, и писали Достоевский и Толстой, которых вы считаете хоть… хоть и талантливыми, но не очень умными (а, это тот же самый спор о религии, когда Людвиг напоминал о тысячелетиях существования религий, а Ксения возразила, что и рабство существовало тысячелетия). Однако, и в самом деле, — продолжал Людвиг, — со смертью для каждого из нас — для в-вас, для меня — кончается всё.
Читать дальше
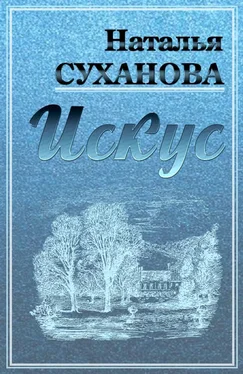







![Наталья Суханова - Зеленое яблоко [СИ]](/books/430595/natalya-suhanova-zelenoe-yabloko-si-thumb.webp)
![Наталья Суханова - Анисья [СИ]](/books/430596/natalya-suhanova-anisya-si-thumb.webp)
![Наталья Суханова - От всякого древа [СИ]](/books/430598/natalya-suhanova-ot-vsyakogo-dreva-si-thumb.webp)