— А о чем жалеть? Это все временное: сегодня — есть, завтра — нету. У меня не бабий характер — надо мной ни один мужик власти не забирал.
— Как Горький, да? — пусть бы секли принародно на площади, но дали учиться?
— Нет, сечь бы себя не дала.
— А что бездетная, не жалели?
— Когда-то жалела, теперь нет. Нагляделась в войну. В этом же доме, напротив, детский сад был. Разбомбили. С тех пор не жалею. Да и не нужно тут ума большого — рожать. Это добро на свете не переводится. Нет, что не рожала, не жалею. Жалею, что учиться не смогла.
— А что же муж? Он ведь хотел учить вас.
— Он и учил. Пока не посадили. «Куда-куда»! В тюрьму, в лагеря. За что? За то, что дурачок был. Блаженненький. А по твоей линии — адвокатом работал. Не тех, кого нужно, защищал. Я ему говорила: брось, не лезь на рожон. А он: «Я все делаю по закону».
«Забавно, — думала Ксения. — Вот оно что выходит, муж ее — враг народа. От большой хорошести, разумеется. Поэтому и эмгэбэшники — мучители».
— Ну вот, видите, — говорила она вслух, — а вы говорите: учиться. Муж ваш был образованный, а вы его все равно дурачком считаете.
— Не всякому и в пользу образование. Образование — это тоже не главное. Главное — характер.
— Разве у вашего мужа не было характера, если он не боялся, вы говорите, лезть на рожон?
— Это не характер, а дурость. Переть на рожон — для этого ни ума, ни образования не нужно. Он и тем, кого защищал, один вред принес. Думал, правда себя кажет. А правда на ниточке пляшет.
«Она и сама-то контра», — рассеянно думала Ксения.
* * *
Ким явился на лекцию явно навеселе, и приятель его тоже. Ким глазами показывал приятелю на Ксению, бесцеремонно ей улыбался, причем его пьяные улыбочки дурацким образом чередовались у него с мрачными гримасами. И приятель улыбался и даже что-то делал пальцами вроде «козы». Ксения остолбенела. Этого еще не хватало! Остолоп! Предельный! Это была уже не просто пакость — это было предательство!
Смерив ледяным взглядом Кима и его приятеля, она склонилась к тетради, четким почерком записывала какое-то подобие лекции. А в голове твердилось: «Вот мы и влопались в комедию!»
Милка фыркнула рядом, подтолкнула локтем Ксению. И, подняв голову, Ксения увидела, что приятели уже делают свои дурацкие «рожки» Милке. Ким смотрел то на Ксению, то на Милку, явно приглашая взглядом хорошо повеселиться вместе. Ну, козел! Ксения разделается с ним, она от него одно мокрое место оставит. Она уничтожит его эпиграммами. И себя не пощадит. Все высмеет: и нежные взгляды, и неспособность ни на что большее.
Из очи в очи — не видать? —
Течет коровья благодать!
Или:
Он ли входит величаво,
Ломкой бровью шевеля,
Выступает, словно пава,
И смущаясь, и шаля.
Она даже ушла с семинара, настолько — до сердцебиенья, до темноты в глазах — была оскорблена.
А ночью, внезапно сев на своем жестком топчане, на ощупь найдя карандаш и бумагу, записала:
И глаза твои обманчивы,
Словно легкие одуванчики.
Но стихи тотчас иссякли, стоило ей вспомнить. Что, что он мог, смел сказать своему приятелю? «Посмотри, тебе она нравится?». Фу, пакость! Или: «Посмотри, мы сейчас будем глядеть друг на друга». Кретин! Можно рассказать о поцелуях, о близости даже, о чем угодно, но о взглядах! После этого уже ничего невозможно! Он не просто предатель, — он дурак! И даже если: «Вот девушка, которая мне нравится!», то и тогда все равно пакость! Никого, никого это не должно касаться кроме них обоих! Отдать ее на суд другому человеку! Чужой, знающий, оценивающий взгляд на ней — неужели он не понимает? Могла бы Ксения, пусть даже зверски пьяная, показать на него Милке, шепнуть? Даже Таньке не могла бы! О, кретин, предатель, пакостник! Если бы можно было застонать, вскочить, молотить кулаками, реветь!
Беззубая Марфа прошепелявила что-то во сне…
На другой день Ким был суров и мрачен. Милка несколько раз поглядела в его сторону и хотела что-то сказать, но Ксения отмахнулась, сделав вид, что целиком поглощена лекцией. Приятеля возле него не было.
И еще через день он был мрачен. Даже не глядел на нее. Ксения почувствовала сначала облегчение, потом беспокойство. Сама перехватила его взгляд, улыбнулась ему глазами.
И опять потянулись: утра с надеждой, дни с изнурительной игрой и вечера с едва сдерживаемым раздражением на Марфу, с тоской и недоумением, потому как что бы это значило — неужели он так уж робок? Или ему достаточно той игры, а большего и не надо?
Читать дальше
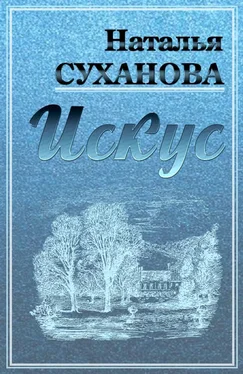







![Наталья Суханова - Зеленое яблоко [СИ]](/books/430595/natalya-suhanova-zelenoe-yabloko-si-thumb.webp)
![Наталья Суханова - Анисья [СИ]](/books/430596/natalya-suhanova-anisya-si-thumb.webp)
![Наталья Суханова - От всякого древа [СИ]](/books/430598/natalya-suhanova-ot-vsyakogo-dreva-si-thumb.webp)