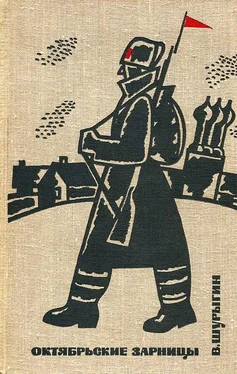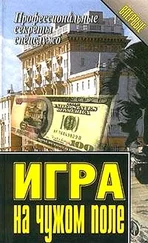«Да-а, — подумал Северьянов, прочитав письмо. — Завтра же с утра надо идти в Наркомпрос к Надежде Константиновне. Она быстро устроит дело с лекторами, и дня через два с первым лектором под мышкой и с мешком литературы за плечами я буду шагать на вокзал. А через денек буду дышать родным воздухом».
И, встретившись на Девичьем поле с Токаревой, он рассказал о письме и о своем счастье увидеть через два-три дня родные места. Токареву не обрадовало это счастье. Наоборот, что-то оскорбительное для себя почувствовала она в его радости.
Северьянов, как член секретариата курсов, дежурил сегодня на общекурсовой лекции по политической экономии. После лекции он получил у лектора записки от курсантов, рассортировал их и понес в комнату Надежде Константиновне.
В комнате секретариата было тихо. За своим маленьким столиком, перелистывая какую-то книгу, стояла Надежда Константиновна. Слева от нее за большим письменным столом сидел Позерн, обложенный раскрытыми книгами, и слушал Крупскую.
На приветствие Северьянова Позерн блеснул стеклами пенсне и снова обратил взгляд на Надежду Константиновну.
Надежда Константиновна положила на стол книгу и продолжала говорить Позерну:
— …лучшие представители нашего просвещенного дворянства чувствовали поэзию добра, правды, чести и простоты…
— И красоты, — добавил Позерн, бросая пристальный взгляд на Крупскую поверх стекол пенсне. — На его лице теплилась сдержанная усмешка.
— И поэзию красоты, конечно, — согласилась Надежда Константиновна и добавила: — В эти дни я много беседовала с Владимиром Ильичем по вопросам политики и философии народного образования. Он согласен, что политехнизм без воспитания у молодежи чувства чести, добра и правды породит деляг, холодных, жадных и бессердечных.
— Вы, Надежда Константиновна, опять забыли о красоте. А ведь это гвоздь воспитания.
— Я не согласна с вами. Чувство чести, правды, добра и простоты и есть самое прекрасное в человеке — его духовная красота.
— Но красивым, — настаивал на своем Позерн, — может быть человек и не обладающий этими чувствами.
— Нет, человек, лишенный простоты, чувства чести, добра и правды, не может быть красивым.
Позерн, подняв стекла пенсне на Северьянова, спросил:
— Вы согласны с этим?
— Целиком и полностью, — живо ответил Северьянов.
— Вот как? — хитро прищурил глаза Позеры.
— Что ж тут такого? — удивился Северьянов. — Надежда Константиновна защищает интересы рабочих и крестьян; я крестьянин, значит, наши интересы сходятся.
— Слышите, Надежда Константиновна? Оригинальное и чисто математическое умозаключение.
Крупская, смеясь, всматривалась в Позерна.
— Так или иначе, а мы остались в меньшинстве. — Она достала из папки проект обращения Наркомпроса о монументальной пропаганде. — «Хорошим средством пропаганды, — медленно читала Надежда Константиновна, — могут явиться: доски на перекрестках улиц, фронтоны домов с надписями-цитатами, с изречениями великих революционеров, художников слова или народной мудрости в духе тех великих идей и чувств, которые в настоящее время положены в основу социальной культуры нашей освободившейся Родины; короткие яркие и глубокие изречения, способные заставить задуматься прохожего человека и заронить искру светлой мысли и горячего революционного чувства в его душе…» — Она не дочитала. Положив проект на столик, заговорила: — Наша и мировая буржуазия вьет заграничные гнезда для русской контрреволюции. Голод душит наши города. Нечем топить паровозы, и все-таки Владимир Ильич прав. Душу человека нельзя никогда забывать! Завтра же это с Анатолием Васильевичем окончательно отредактируем и — в газету! — Она смолкла и вопросительно поглядела на Северьянова.
Северьянов подошел к ней.
— На политэкономии, Надежда Константиновна, присутствовало сегодня восемьсот семнадцать человек, — положив на столик кучу записок, сказал он и нерешительно добавил, доставая из бокового кармана гимнастерки пасквильный рисунок: — И еще вот эта петрушка.
Крупская, как показалось Северьянову, равнодушно взглянула на рисунок и спокойно перевела слегка улыбающийся взгляд на покрасневшего до ушей Северьянова.
— Вас очень волнует эта карикатура?
— Надежда Константиновна, я бы этому эсеровскому мазиле голову отрубил. Счастье его, что не подписал, подлец!
— А если подписал бы, тем более не отрубили бы, — серьезно возразила Крупская, — спорить, убеждать начали бы.
Читать дальше