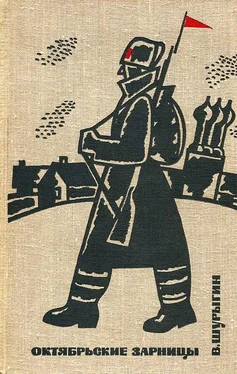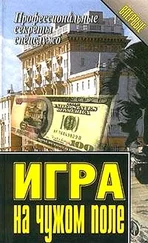Борисов тихо промолвил:
— Когда бы на эту крапиву да не мороз, с нею сладу бы не было. — И уже с откровенным недоброжелательством: — Все, что он говорил здесь, совершенно не то, о чем он пришел говорить. Он думал, что ты сам проболтаешься о Токаревой… Его очень волнует, почему она изменила к нему отношение. В какой степени ты причина этому. Но главное, что она начинает сочувствовать большевикам. Токарева его терпеть не может, а он еще больше кружится около нее чибисом.
— Хотел бы я и его и Токареву послать ко всем чертям.
— Если бы можно было, я бы тоже помог тебе, но, видно, нельзя. Вчера на Девичьем поле она гнала его от себя: «Надоел ты мне хуже горькой редьки! Уходи! И чтобы тебя мои глаза не видели!» А он: «Что с тобой, Маруся? Ты стала такая нервная и раздражительная! В Туле считала меня своим лучшим другом, а здесь гонишь?» Она ему: «Как ты смел так дерзко разговаривать с Лениным?» — «Но ведь и ты была не очень почтительна?» — «Я искренне сомневалась тогда в Брестском мире и очень сожалею об этом». — «А теперь?» — «А теперь я одобряю Брестский мир. Целый вечер вчера спорила с Северьяновым, и он доказал мне мою, нашу неправоту». Шанодин задрал голову, как петух, хлебнувший воды: «Ах вот как? Значит, взгляды менять легче, чем перчатки!» Токарева отвернулась от него, а он чуть не со слезами: «Подумай, Маруся! Станешь большевичкой… А вдруг власть большевиков… ау!.. Что тогда?» Мне показалось, что Токарева плюнула ему в лицо. «Трус ты подлый, — сказала, — запомни! Если я пойду к большевикам, то уж никогда, ни при каких обстоятельствах ни одного шагу назад не сделаю!»
— На словах волевая, — процедил сквозь зубы Северьянов, — на деле-то какова?
Борисов, не торопясь, не то с завистью, что Северьянов, а не он, нравится такой красивой девушке, не то с обидой на нее, заключил свой рассказ так:
— Этой девке только бы штаны надеть!
Плотно закрытая Борисовым дверь с грохотом распахнулась. В комнату с маленьким бумажным кульком в руке вошел толстоплечий Наковальнин.
— Встать! Я сало принес. Ну, чего сидите как истуканы? Или вы совсем отощали от хлебных восьмушек?
Северьянов, посмеиваясь добродушно, оттолкнулся и соскользнул с кровати.
— Сразу видно бывшего прапорщика. Хлебом не корми золотопогонника — честь отдай. Мы еще посмотрим, какого ты добра принес.
Наковальнин накинулся на Борисова, который по команде «встать» поднялся вяло и нехотя.
— Ты что же это, как корова на льду, стоишь?.. А?
— Ну вот еще! — с деланной серьезной миной ухмыльнулся Борисов. — Буду перед каждым спекулянтом руки по швам держать…
Наковальнин, деловито озираясь, спрятал сало в фанерный баул, который он выдвинул ногой из-под кровати Борисова, и подошел к Северьянову.
— Ты уже зубришь «Лекции по введению в экспериментальную педагогику» Меймана?
— Да, вот страниц триста отмахал.
Пока оба приятеля разговаривали о плодовитости Меймана, который отгрохал одно «введение» в трех томах, Борисов потихоньку замкнул свой баул, а ключ спрятал в пиджак, висевший на спинке кровати.
— Теперь посмотрим, кто будет сало есть, — объявил он. Глаза его смотрели серьезно, губы улыбались.
— Спасибо, Коля, за коптерскую распорядительность. — Наковальнин подошел к баулу и потрогал замок. — Когда потеряешь ключ, обратись ко мне.
— А у тебя разве есть второй?
— Даже два.
В клубной комнате Коробов пел уже новую песню. Наковальнин подтянул ему чистым первым тенорком:
И вдруг спохватился:
— Да, чуть не забыл! Тебе, Степан, письмо. Только не от Гаевской, Барсуков пишет.
Наковальнин вытащил из бокового кармана гимнастерки письмо и передал его Северьянову.
* * *
Через час-полтора приятели сидели за столом. Перед ними в солдатском котелке дымилась сваренная с салом толченая картошка. Каждый держал благоговейно в щепотке по тоненькому, как листочек, ломтику черного хлеба. Хлебный пластик Наковальнина был покрыт тонким листиком сала — премия, жалованная ему Борисовым по единодушному решению четверки за удачную вылазку на Сухаревку. Наковальнин был сейчас поэтому рассудительно великодушен и, как он сам говорил о себе, способен вникать в самую суть вещей.
— Вот! — поднял он гордо на ладони свой ломтик. — Тут вся наша сила! Все начала и концы всех философий. Без этих высших субстанций всего сущего «ничто же бысть, еже бысть». Все движется к ним и от них.
— Не единым хлебом с салом жив человек, — возразил с обычной своей ленцой Борисов, разливая из чайника по жестяным кружкам черный, как деготь, чай. — Есть еще и картошка. А если говорить о силе — нет ничего сильней человеческого ума, всякая сила ему уступает.
Читать дальше