ПОНЕДЕЛЬНИК — ПЯТНИЦА
Повесть
Памяти отца
Всеволода Петровича Воеводина
ХРАМЦОВ, ТКАЧЕВ И ЛЮБА
До подхода «Джульетты» оставалось два часа — об этом только что сообщили по рации, — но Храмцов не был убежден, что судно подойдет вовремя. Еще со вчерашнего вечера по черной воде поползли длинные белесые лохмотья тумана. Они ползли медленно, словно нехотя, соединялись, отрывались от воды; к утру туман стал тяжелым и липким. Храмцову казалось, что его можно отдирать от себя или раздвигать руками.
Он не любил эти весенние туманы, и вовсе, не потому, что труднее вести судно даже при помощи «Раската» — береговой радиолокационной станции. Просто в такие часы его охватывало тревожное чувство неуверенности и одиночества. И всякий раз, когда надвигалась белесая пелена, Храмцов спускался вниз, в каюту или кают-компанию, где ребята — такие же дежурные лоцманы, как и он, — спали, читали, резались в «козла» или травили бесконечные байки.
Но сегодня он не ушел с палубы лоцманского катера. «Джульетта», «Джульетта»… Нет, никогда раньше он не встречал это судно ни в Ленинграде, ни в других портах. Должно быть, новое. Вон на Балтийском заводе недавно построили танкер для шведов, те окрестили его «Риголетто». Храмцов усмехнулся. Кто-кто, а он-то повидал суда со всякими названиями. Одну посудину-старуху, закопченную и черную до неприличия, звали «Мадам Баттерфляй». В Сингапуре лет двадцать назад стояла на рейде «Моя любовь», а по Суэцкому каналу он проводил «Чудака». Ну, что ж, «Джульетта» так «Джульетта»… Судя по радиограмме Инфлота, судно некрупное, пять тысяч брутто-регистровых тонн, лоцманы называют такие суда «велосипедами»: «смотался на велосипеде…»
Туман стелился низко, и когда Храмцов поднялся на мостик буксира, ему показалось, что он вынырнул из глубокого омута к свету, к воздуху, — теперь туман был внизу, Храмцов видел его колышущуюся, неровную поверхность.
В стороне бесшумно прошли расплывающиеся огоньки — малые рыболовные тральцы идут на базу… Туман глушил все звуки, кроме тех, которые собрались здесь, на лоцманском буксире, и возле него: шелест воды у борта, постукивания в машинном и взрывающиеся звуки джаза — это кто-то из ребят мучит транзистор.
Быть может, потому, что Храмцов уже привык к этим звукам, он не сразу понял, откуда взялись громкие голоса, то перекликающиеся между собой, то перебивающие один другого. Трубные голоса приближались, потом оказались прямо над головой, и Храмцов увидел, как по сиреневому рассветному небу протянулся лебединый клин. Лебеди летели низко, их голоса звучали призывно и победно, будто птицы радовались большой воде и концу долгого пути. Храмцов замер, следя за их полетом. В медленном движении птиц была необъяснимая торжественность. Лебеди не просто провозглашали свой прилет к родным местам, к своим недальним гнездовьям. В их кликах были еще и нетерпение, и страсть — провозвестники других жизней, которые войдут в мир, чтобы повторить все сначала…
Странно, никогда прежде полет лебединых стай здесь, над самым Ленинградом, не волновал Храмцова так, как взволновал сейчас. Или это уже возраст? Может быть, человек, перевалив за сорок, становится сентиментальным? Храмцов провожал этот клин глазами, слушал, как быстро затихают голоса, — видение исчезло, и снова только вода шуршит у борта да внизу, в кают-компании, играет музыка…
Потом он понял, почему не ушел сегодня с палубы, и отчего нет обычного неприятного чувства одиночества, и почему разволновался, увидев летящих лебедей. Ты счастлив, вот и все. Себе-то нечего врать! Никто не заставляет тебя забыть прошлое, наоборот, человек без прошлого, каким бы тяжелым оно ни было, неизбежно беднее душой.
— Храмцов! Где ты?
— Здесь.
— Дымишь? — Снизу показалась лысая голова, потом плечи с полупогончиками. — Пошел бы ты вздремнуть, — сказал Митрич. — Сегодня по каналу часов шесть тащиться, не меньше.
Читать дальше
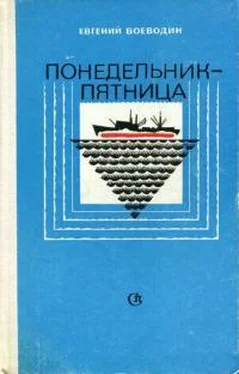






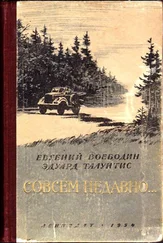




![Евгений Воеводин - Твердый сплав [Повесть]](/books/409642/evgenij-voevodin-tverdyj-splav-povest-thumb.webp)


