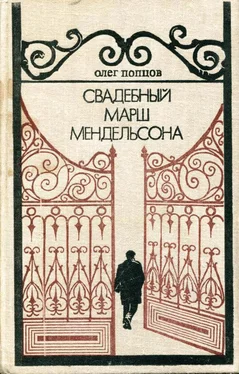— До завтра!
— Завтра уже нет. Есть только сегодня.
— Значит, до сегодня.
Дверь привычно делает «та-ак».
Слышу все: летящий шорох одежды, и поворот ключа в замке, и хлопнувшую дверь, и дребезжание оконных стекол. На кухне зажигается свет.
Стою на самой середине улицы. От асфальта тянет холодом. Ватный дым шуршит, задевая воздух, тяжело вываливается из одинокой трубы, похожей на пушечное жерло. Стою посреди улицы, смотрю на застывшие звезды, на их нервное мерцание, и мне кажется, вот-вот откроется окно, зашелестит по подоконнику засохший лоскут бумаги — его не успели отодрать — и сверху упадет на мостовую голос, ударится о нее и только тогда будет мною услышан: «Ты здесь?! Не уходи, все только начинается, не надо никаких «до завтра».
«Очнись, — говорю я себе, — жизнь продолжается. Сегодня в десять — защита проекта спортивного комплекса. Вот будет потеха… Мечты прелестны, слава мечтам!»
* * *
Слушай, слушай, слушай меня! Все так и было. Я закрыла входную дверь, сбросила туфли, на цыпочках подошла к холодильнику — страшно хотелось пить. Взглянула в окно — Кеша меня не видит, задрал голову, пытается угадать, в каком окне я. Зажгла свет, он заметил, помахал рукой. Мне следовало быть осторожнее. Слава богу, наши спят. Скоро четыре. Утром отец не даст проходу: где была? Скажу: задержалась у подруги. Могу я себе позволить такую роскошь: раз в жизни засидеться у подруги?
«Ты обязана позвонить».
«Ах, папа, — скажу я ему. — У этой подруги нет телефона».
Снова подошла к окну. Кеша шел прочь, устало загребая ногами. «Как пьяный», — подумала я. Мне стало удивительно весело, я засмеялась.
— Ужасно смешно, — сказал папа. Помятая пижама, взлохмаченная борода, мешки под глазами. Папа зябко потирает руки.
— Просто можно умереть от смеха, — в тон папе замечает старшая сестра.
Время от времени сестра ночует у нас — привычка. Боится оставаться одна в квартире.
Папа неловко одергивает пижаму, выглядывает в окно. Улица пуста. Папа разочарован.
— Может, ты объяснишь, что все это значит?
Я не отвечаю, пожимаю плечами.
— М-да, — вздыхает папа. — Надо полагать, минут двадцать назад ты была разговорчивее.
Сестра Лида в разговоре не участвует, она жмурится на свет. Сестра умеет многозначительно молчать.
— Это что, перспектива или так?
— Что «так»? — я стараюсь не смотреть на папу.
Папа кивает на окно:
— Это?!
— Ах, это? Не знаю…
— Ничто не ново в этом мире. — Папа зевает, достает невероятно длинный мундштук, громко продувает его.
— Не вижу оснований для переполоха. Ничего не случилось.
— Когда случится, будет уже поздно! — взрывается папа. — Интеллигентные люди придирчивы к своим чувствам и не бросаются на шею первому встречному.
— Я тоже не бросаюсь.
Лида откровенно зевает.
— Мне чрезвычайно повезло с дочерьми, — замечает отец и ногой пододвигает табурет. — Я хочу знать, это эпизод или закономерность, к которой мне следует привыкнуть…
Отец настроен решительно. Ждать помощи от сестры бесполезно. Сестра как изваяние. Голова чуть наклонена, лица не видно. То ли слушает, то ли дремлет, в общем, молчит.
— Я же предупреждала, папа, что задержусь…
— Что-о?!
Когда папа кричит, мне становится не по себе. С ним это бывает редко, мы отвыкли от крика.
— Теперь это называется «задержалась»! Недурно. Семейная идиллия, мягкие акварельные тона. «Я немного задержусь, папочка…» — «Хорошо, доченька, только не очень долго». — «Ну что ты, папочка. К трем часам ночи я буду дома». Где ты шлялась?! — внезапно взрывается папа. — Кто он?
Папу уже не остановить.
— Молчишь? Тем хуже для тебя. Я один, без матери, — будто стон роняет отец, он ударяет кулаком по столу, и все, что стоит на столе, подпрыгивает.
Этих отцовских слов я боюсь больше всего. Отец действительно один. Мать умерла девять лет назад. Рак: три месяца — и матери не стало. Почему отец не женился второй раз? Не знаю. Может быть, знает Лида? Но она ничего не говорит. Ей сейчас почти тридцать пять… А тогда минус девять, значит, двадцать шесть — взрослый, самостоятельный человек. Я моложе, мне сейчас двадцать два. Отец не женился. Нам казалось, ему хорошо с нами. Поначалу, наверное, так оно и было. Что-то надломилось, пошло наперекос после первого замужества Лиды. Отец был против, недоумевал: почему такая спешка? А когда узнал, что муж Лиды работает скрипачом в эстрадном оркестре и играет в ресторанах и кинотеатрах, сник совсем. Он уже не верил ни в какие разговоры о семейном счастье. Так и сказал: «Проклинать не проклинаю. Благословлять рука не поднимается. Мирюсь». Лида вся в бабушку: лицо, на котором скулы обозначены ровно настолько, чтоб быть заметными, огненно-рыжая, зеленоглазая. Глаза сумасшедшие, воспламеняются мгновенно, протяни руку — и вспыхнет рука. Даже когда ее взгляд безотносительно скользит по встречным лицам, а на лицах мужчин взгляд задерживается чаще, я вижу, он словно обжигает их, люди непременно оглядываются и смотрят вслед, надеются на повторный взгляд, ждут его. Есть женщины красивые, их красота спокойна, благополучна даже. Их можно созерцать, как созерцаешь Диану в гулкозвучных музейных залах, стоишь, зачарованный белизной мрамора, мягкостью линий спадающих одежд, не веришь никак, что те одежды каменные, а еще не веришь, тяготишься сомнением, что же первично, эта ли каменная прелестница, во всем повторяющая живую красоту, или живая красота, скопированная с мраморного совершенства, оставленного нам как прозрение?
Читать дальше