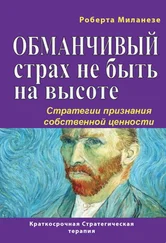За спиной у девчонок послышался сначала глухой топот, потом чей-то вскрик или стон. Натка быстро оглянулась. По пустырю, заросшему мелкой травой, сокращая расстояние, к эшелону бежала Клавдя.
Какая-то неистовая окрыленность была в ее движениях, в выбившихся из-под красной косынки, подхваченных ветром черных прядях волос. Натка вдруг тоже скатилась с воза и бросилась вслед за Клавдей.
На одной из платформ, глядя на бегущую Клавдю, белозубо улыбался русоволосый лейтенант.
Что-то дрогнуло внутри у Натки. «Да это же Шура!» Даже одет он был в черный комбинезон и простые сапоги, какие обычно носили трактористы в починке.
Натка, задыхаясь, на ходу отводя за уши отросшую за лето светлую челку, неслась к насыпи: вдруг поезд уйдет. Шура не видел ее, он смотрел только на стремительно бежавшую Клавдю.
Паровоз вдруг оглушительно загудел, и вагоны медленно сдвинулись с места.
— Шу-ра! — что есть силы закричала Натка и с разбегу налетела на внезапно застывшую Клавдю.
Лейтенант отделился от танка, шагнул им навстречу. В этот момент платформа поравнялась с Клавдей и Наткой. Руки Клавди безвольно повисли, на смуглом побледневшем лице не было ни кровинки. Закусив губу, она по-прежнему смотрела только на лейтенанта.
— Дяденька! — очень громко крикнула Натка и побежала рядом с платформой. — Вы Шуру Набатова на войне не встречали? Он на вас очень похож.
— Нет! Не встречал! — крикнул танкист, глядя на Натку и Клавдю. — Если увижу, привет передам!
— От кукуйцев! Скажите, что ждем его! — закричала Натка и помахала рукой.
Возчицы, сгрудившись у переезда, тоже махали красными косынками вслед уходящему поезду. А он все ускорял и ускорял бег. Вот уже последние вагоны минули семафор и, на глазах уменьшаясь в размерах, скрылись за поворотом.
В груди у Натки от бега и от волнения покалывало. Она поискала глазами мать и увидела Маркелыча.
Сутуло сгорбившись, председатель тяжело присел на бровку своей телеги, достал из кармана кисет, попробовал завернуть самокрутку. Но узловатые пальцы его, державшие клочок газетной бумаги, вздрагивали. Табак сыпался мимо.
Клавдя подошла к Маркелычу, взяла из его рук газетный обрывок, насыпала табаку, скрутила козью ножку. Маркелыч закурил, глубоко затянулся несколько раз, посмотрел на солнце. Оно стояло уже над станционными тополями.
— Ну, бабы, тронулись, — сказал председатель…
…Тонька все так же, калачиком, лежит на пустых мешках, смотрит в остывающее голубое небо. Кони идут медленнее, натужнее. Начался подъем на Осиновую гору.
— Ты думаешь, я спала? — спрашивает Тонька. — Эх ты! Я только глаза закрыла и весь сегодняшний день передумала.
— И я тоже, — говорит Натка.
— Дак чо же ты нюнишь? Сколько мы сегодня разного увидели всего. И паровоз, и танки, и элеватор, и вокзал.
— Верблюдов и водокачку.
— За всю жизнь не видели столько.
— А что сейчас Валька делает, как думаешь?
— Едет, смотрит в окно. Лес видит, поля, реки да деревни разные.
«Лучше бы она ничего этого не видела, а ехала сейчас с нами», — думает Натка. Потом говорит:
— Тонь, ты слышала, что Галина Фатеевна про наш починок сказала. Непонятно как-то…
На вокзале Галину Фатеевну и Вальку провожали Натка с матерью и Тонька. Пассажирский опаздывал. Они стояли на перроне в толпе ожидающих и поглядывали, как и все, на высокий семафор. Оглушенные впечатлениями дня, девчонки все еще не понимали сердцем, что через несколько минут расстанутся навсегда.
Натка, Валька и Тонька говорили о пустяках, рассматривали висящий на перроне медный сигнальный колокол, черные гнезда ворон в высоких кронах тополей над красной крышей вокзала. Бегали смотреть деревянные столики под серым навесом — станционный базар. И бревенчатую изглоданную коновязь, куда должен был приехать с элеватора Толя. Он еще разгружался.
Семафор сменил красный огонек на зеленый. Народ на перроне засуетился, задвигался. На блестящих от солнца стальных рельсах показался наконец грохочущий, распускающий дымный шлейф паровоз. Только сейчас девчонки ощутили тревогу, горечь и неизбежность происходящего. И тогда Галина Фатеевна, обняв Маряшу, Натку и Тоньку как-то всех разом и тепло посмотрев в их лица, сказала эти слова:
— Трудно мы с вами, Маряша, жили. И еды не хватало нам, и покоя. И обыкновенного выходного. Вот кончится война, заживем роскошно. Захочется тишины — тишина. Захочется музыки — музыка. И дочери наши вырастут. Но и потом, как ни было бы чудесно, когда заговорят о счастье, я буду с грустью вспоминать наш Кукуй. Нам будет всегда не хватать вас…
Читать дальше