Надо было уйти. Уйти, уйти, не мешкая. И Евланьюшка вроде б спохватилась:
— Ой, ошеньки! Деточки дорогие! Дырявая моя голова, полоумная-а… Стара-старица я совсем о гостинчиках при-забыла-а.
— Ничего, мать, не нужно. Они у меня — спартанцы.
— Не-ет, нетушки-и! Оделю я внучиков и пряничком, и сладкою конфеткою. Я тут рядышком живу, мигом обернуся.
На улице, закрыв лицо ладонями, Евланьюшка двигалась вслепую. И с причетом: «Хуже я собаки дворовой. И цена мне ниже полушечки-и».
Это был удар, от которого словно лопнул стержень, сдерживавший все пружины ее своенравной души.
— Рученьки вы мои милые, сделайте же задавочку. Дам я вам, рученьки, поясочек шелковый…
Нервный озноб потряс Евланьюшку: ой, ошеньки! горюшко мое горькое-и…
Метнулась она к перилам моста:
— Рыбки мои, рыбки! Примите меня-а, копеешную-у…
Но подумалось: «Съедят жадные раки мои глазоньки прелестные. Не взглянет потом, не пожалеет никто Евланюшку-у…»
И понесла она горе свое домой: рано порадовалась, выйдя от Гришки. Ох, ранешенько!
* * *
И дома Евланьюшка слезно жаловалась: «Я-то, святая мученица-а, самородная золотиночка, дешевле собаки… Ох, буки, букушки! Ох, сытые, самодовольные! Да мои глазоньки-и, мои смородинки-и, ох не хотят на вас, примерных, не глядеть, не смотреть».
Достала Евланьюшка платье из сумки. То, сердечное, в котором была с Хазарушкой на первом свидании. Оно так тронуло ее, что Евланьюшка и совсем впала в исступление: уткнулась в платье и ну целовать.
— Дорожинка моя, памяточек!.. Ты скажи, ты открой мне, былиночке: где дружок наш, где милый? А дружок наш, а милый замурован в красный камень. А и холодно ему, а и тягостно ему во том камне. Я наряжуся да приду к нему в тихую во полночь…
Попричитав, Евланьюшка принялась гладить платье: не в помятом же идти к Хазарушке на последнее свидание! А обида все жмет сердце. И слезы все кап да кап! «Дешевле… Дешевле я старой собаки…» Туман туманится перед глазами, а нервная рука словно месит его: шерьк! шерьк! И платье, дорожиночка, стало как новое. Мода, та давняя, ушедшая и столько-то лет бывшая в нетях, возвернулась, словно затем, чтобы Евланьюшка, никого не стесняясь, надела это длинное господское платье и с душевным облегчением порадовалась: «Ба-ах, башеньки! Да как хорошо-то! А я плачу… Вроде б и старости нет…»
Любимую янтарную брошь приколола Евланьюшка. И, стоя перед зеркалом, долго причесывала волосы. Они, как и в юности, были густы, пушились и пахли липовым медом. Лишь добавилась — одна-разъединая! — седая прядь. Евланьюшка заплела косу, как девушка. Духами окропила себя. И улыбнулась: да она ж красавица непомерклая-а…
— Мне бы, дурочке, не на Воронью гору лезть, а прямо к солнышку, во столицу многолюдную. Да сам турецкий хан-султан глаз не отнял бы, проезжаючи, от Евланьюшки…
О цветах — красных маках — в это позднее время и мечтать было нечего. На площади, рядом с мостом, перед большим красивым домом, возвышалась клумба, на которой цвели канны. Евланьюшка напластала большой букет и направилась к памятнику Хазарова. Идет Евланьюшка, идет да оглянется: не бегут за ней? Сенечка да его детки — зайчики, лисички. Пусть же он скажет только:
— Да куда ты, матерь, направилась? Да за что ты, матерь, на нас обиделась?
Она ответит ему. Она ответит!
«А я за то на тебя обиделася, что я для тебя дешевле собаки дворовой. Вот поплачь же теперь, погорюй, что вогнал ты меня во сыру землю…»
Но нет Сенечки. Редкие пары влюбленных встречались ей, провожали взглядом: вот платье-то! шик-модерн! А цветы…
Золотым светом, не скупясь, луна заливала и сквер, и памятник Хазарову. И подстриженные крохотные елочки — оградка сквера, и подстриженный кустарник, и березы, и липы — все здесь дремало, обласканное лунным светом. Евланьюшка положила букет к подножию памятника и сказала:
— Ой, милы-ый! Ой, желанны-ый! Хазарушка… Всем-то я поклонилася в ножки. Один ты остался. Паду я и ко твоим ногам: прости ты меня, суровы-ый, за любовь мою неладную-у…
Встав, как б церкви, на колени, Евланьюшка трижды ткнулась лицом в мягкую, пахнущую прохладой и прелью, землю. Тень от головы бесшумно скользнула перед ней на той же земле, по тем же цветам.
— И ты, боженька, каратель грешных, прости меня, — глянув на луну, проговорила она и пошла по клумбе, села возле постамента, как на лесной полянке, не стесняя себя. Взяла Евланьюшка горсть таблеток, что когда-то сердитая докторша дала Алешеньке — от болей великих по ночам спать не мог, — и ну кидать их в рот. Словно орешком забавлялась. Проглотит одну, другую и посмотрит: не спешит ли Сенечка? И вздохнет с огорчением: «Ой же, ошеньки-и! Запоздал…» И утешит себя: «Да не бойся ты, Евланьюшка! Отпоят, отводятся со врачами со скорыми…»
Читать дальше
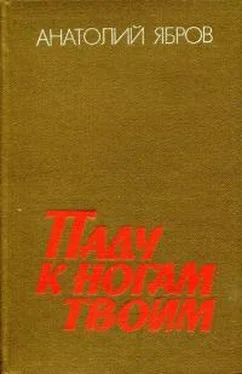





![Анна Шеол - По рукам и ногам. Книга 1 [litres с оптимизированной обложкой]](/books/433586/anna-sheol-po-rukam-i-nogam-kniga-1-litres-s-opti-thumb.webp)





