— Что, что, Гриша? — Евланьюшка по-кошачьи прижималась к его ногам. Григорий брезгливо отстранился — жалость ушла, а отвращение было слишком велико. Те раны, о которых он думал, что они зажили, вдруг сразу напомнили о себе. Григорий совершенно потерял самообладание. Гвозданул пухлым кулаком по раме. Стекла зазвенели и чудом не рассыпались.
— То, в душу твою и креста! Ты бы раньше про него вспомнила! Глядишь, и по-иному его жизнь сложилась бы.
Евланьюшка, сидя на полу, уставилась на него остекленевшими глазами. Слабо, машинально, как заводная кукла, взмахивала кистью руки и говорила:
— Ой, нет, нетушки-и-и. Да куда ж я теперь денуся-а? Бездомная, никуда не нужная-а…
Григорий хотел было направиться в другую комнату, но Надя произнесла чуть слышно:
— Грицю, ей плохо.
Григорий ответил резко:
— Ей всю жизнь плохо!
— Грицю, она умрет. Она умирает!
Григорий нехотя оторвался от окна.
— Дай ей под язык таблетку. У меня там, в шкатулке, есть еще нитроглицерин. И мне дай. Да, пожалуйста, побыстрей…
Приняв таблетку, он сел за столик. Тыча вилкой в разинутый, засохший рот селедки, думал: «Напрасно я, наверно, так… Да что делать? Больно уж много куролесила… На десятерых бы, пожалуй, хватило».
— Грицю, помоги же мне поднять ее!
Когда уложили Евланьюшку на тахту, Надя обняла мужа.
— Любый, не говори с ней больше ни о чем таком. Я боюсь за тебя. Ты дрожишь, лица нет… Грицю, ради меня. Ну пожалуйста. Боже, зачем я ее пустила?! — и вышла из комнаты.
18
Григорий, похлопывая себя по левой стороне груди, грузно переваливаясь, ходил взад и вперед. Куда девались его легкость и живость!
— Кончилась наша побеседушка, Гришенька-а, — билась на тахте Копытова. — О-ох, ошеньки! Как тычется в тесном гнездышке мое сердечко изнуренное! Ты уж, Гришенька, прости за все Евланьюшку, любовь свою первую, безотрадную… Не глумися да не злочинству-уй. А схорони же по-божески, со приличием…
Григорий молчал. И все хлопал по груди. В спальне, слышалось, вздыхала обеспокоенная жена. Евланьюшка посетовала: «Вроде и впрямь я отравная-а-а. Злой рок толкает. Где ступила — там взростает горе-горюшко-и…» На улице, знать, зажгли фонари. В комнате посветлело. На стенах означились тени. Евланьюшка, как в то далекое время, опять вдруг увидела крест — серый, но с одной стороны словно посеребренный. Это ж знамение! Да, да! Что ни говори, что ни думай — знамение.. Ба-ах, башеньки! И худое ведь, неладное. Тогда, попервости, оно предсказало девоньке крах (сердечны-ый, вечны-ый). Дурочка жаркая, не смелая кралась к желанному Хазарушке. Дверь бы отворить (то-то и осталося-а!), шаг бы ступить (да один-одинешеньки-ий) — и вот оно, твое счастье. Запретное да отравное. Испей — и окрылися, Евланьюшка. Во сне мужик томленый, непамятлив. Кабы знать голубушке! А позапачкавши, взять его, святого, во свои рученьки. И для верности, для прочности опутать еще сыночком ли, дочкой ли. Так нет же, испугалася Евланьюшка (неопытная-а, несмелая-а). Чего же испугалася? Шороха мышиного, вздоха ли ребячьего? Глупая! Ползи бы танк длинным дулом — а ты не отступись! И пережила девонька сладко-таинственный миг, помешанный со стыдом и страхом, — да тем и удовольствовалась.
Что же ей ждать теперь?
Евланьюшка улыбнулась грустно, словно крест напомнил о том, что она уже давно знала: «Говори, не молчи. О самом сокровенном говори. Твое время кончается». И она вдруг открылась:
— Гришенька… а письмо-то на Хазарова я написала…
— Ты-ы?!
— Я, Гришенька.
— Ты ж, стерва, его любила!
— О-ох, ошеньки! Никто не поймет это. Потому и хотела взять и спрятать в своем неуёмном сердце, что любила Хазарушку. От людей спрятать. От бабьих чар спрятать. Потому что он мой до малой капельки. Оттого-то и жизнь моя, Гришенька-а, — траур траурны-ый.
Пыжов, массивный, тяжело дышащий, стоял, возвышаясь над ней. Руки вытянул, пальцы в напряжении, дрожат пальцы: что, задушить ее, стерву? или вышвырнуть? вон, вон!
— Ты же… дьявол! Понимаешь? Чудовище! — словно напугавшись, закричал: — Надюша, погляди на нее. Это она! Она оболгала Хазарова. Дегенератка!
Жена не отозвалась. Ей, надо полагать, совсем не хотелось глядеть на такое редкое сокровище. Григорий начал закуривать. Сколько же сделал лишних движений, пока у зажигалки загорелся фитиль!
— Ба-ах, башеньки! Знала я, безотрадная-а, что никто-то не поймет меня да мое черное отчаянье. И ты, Гришенька, ошибаешься. Не Евланьюшка, а любовь отравная — вот кто генератка и чудовище…
Читать дальше
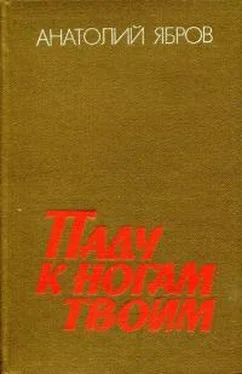





![Анна Шеол - По рукам и ногам. Книга 1 [litres с оптимизированной обложкой]](/books/433586/anna-sheol-po-rukam-i-nogam-kniga-1-litres-s-opti-thumb.webp)





