Евланьюшка рассмеялась нервно:
— Ой, Гришенька-а-а! Плева-али… Плевали! Да я терпеливая-а. Знать, такое на роду моем написано: и плевать станут — не возмутюся. Но ты напрасно думаешь, Гришенька, что я из воды сухой вышла. Я сама себе и срок выдвинула: двадцать пять годочков! Ни тебе, Евланьюшка, работы, ни тебе, бедовушка, веселья. Полное одиночество!
Григорий, удивляясь, хлопнул по мягкому валику дивана: опять ведь придумка! Чтобы себя оправдать — и возвеличить.
— Ой же, Гришенька! Признаюся: как мне тяжко пришлося-а! Ты германца лютого и застрелить мог и полонить мог. Он во плоти перед тобой. Я ж свою кручинушку — невидиму, незнаему — ни светлым днем, ни ночушкой бессонною избыти не могу. И по сей день точит червяком. И не видно моей беде окончания-а. Одне подушки и знают о слезах Евланьюшки. Бывало, придут с просьбой: помоги, бабонька, хоть фрукты собрать. Война ж, людей нехватка. А и разжалоблюся. Но в саду одумаюсь: кто на волюшку выпусти-ил? От одиночества — на люди? Падала да в голос: ой же, родные! Ой же, милые! Помираю я… И везли меня на кляту Воронью гору…
«Симулянтка. Редкостная и… великая в своем роде, — думал Григорий. — Хотела, сверхумница, уйти от жизни? Скрыться в своем единоличном домике? Можно сказать, опыт завершился. Горький, затяжной опыт. Но как он ценен! Жизнь никого не карает так сильно, как духовных одиночек, выродков, отщепенцев. Каждый их шаг становится жалкой трагедией. А весь путь — поучительной историей нравственного вырождения».
— Спасибо тебе, Ева, за наглядный урок, — проговорил Григорий, уже не слушая ее жалобливый рассказ: устал, к тому же измерил, узнал все пропасти ее души, так что Евланьюшка даже и потеряла для него интерес.
— Ой, ошеньки! Никак, я и на ухо становлюся тугой. Не слышу, не различаю-у твои словечки, Гришенька-а, — пропела она. — Ты погромче скажи-ка мне.
Не дождавшись ответа, вздохнула:
— А и то верно: глухим вторую обедню не служат. Ох, Гриша осерчалый… Не собирай ты в своей головушке на меня думки черные…
20
Григорий уже не бросался в атаку. И не потому, что устал и берег себя, что слабее оказались его жизненная основа, убеждения. Здравый смысл подсказывал: ничего не изменишь в данной ситуации, ничего не поправишь.
«Вот и сладилися-а мятежные душеньки, — подумала Евланьюшка. И замилилась: нет, нетушки! Гришенька добры-ый, сердечисты-ый. Принял бы ее другой-то, стал разговаривать?» Дотянувшись, Евланьюшка погладила ладонью его щеки, поводила пальцами вокруг глаз, точно расправляя морщинки. И, великодушно прощая за все обидные слова, сказала:
— Сколько ж тут царапин! Много-то множество-о… Знать, и тебя крепко пошкарябала жизнь, Гришенька-а…
Рука была мягкая и безвольная. Он, сжав руку, убрал ее со своих щек. Но не отпустил.
— Не дай бог, чтоб еще кого-то так царапала!
Дальше они говорили уже как два человека, у которых все позади. И делить нечего. И чувства давно прогорели. Они вспоминали. Они припомнили даже свою первую ночь. Сдержанно посмеялись: как же все чудно произошло! Сошли с электрички не на той остановке. А договаривались отдыхать компанией. Но не знали, что сошли не на той остановке. И стали обшаривать лесные поляны. Натолкнулись на чудный водоем. Бросились купаться, а их задержал милиционер. Оказалось, зашли в запретную зону и хотели искупаться в хранилище питьевой воды для Москвы. Водворили их в пустую избенку. Там, на голых досках, взаперти, и зачали Семушку. Может, потому и не задалась его жизнь?
Евланьюшка охотно, до подробностей, даже мельчайших, рассказывала ему о своих мужьях. Григорий слушал с интересом, смеялся, даже вздохнул, сожалея:
— Такой талант убила в себе… Это еще одно преступление!
— Ой, Гришенька-а! Как же любишь ты считать чужие грехи. А ведь полымя без дыма, человек без греха и не бывает. Нет, нетушки-и! И не говори, и не убеждай. Грех-то, что онуча… Да, да! Не улыбайся-а. Без его подвороту и душа станет в теле хлябкать. А то нет? Чем же ей жить тогда, истязательнице сладкой? Душенька-то и живет грехом…
Помолчала Евланьюшка, соображая: вроде б, умница, отошла от вопроса. Так и есть, уклонилась. Но о таланте ей не хотелось распространяться. Был и сплыл. Что понапрасну плакать? Таланту свое солнышко требуется. Не жаркое и не хмурое. А не обогретый, не обласканный, он зачахнет.
— Ты-то скажи: как сам жил да был?
Что сказывать? О метаньях своих? О Нюше? Мысли на миг задержались на ней. Все-таки Нюша оставила о себе добрую память. В женщинах есть какая-то стоическая верность первой любви. Дурманящая, гипнотизирующая. Пусть не у всех. Есть! Может, вся трагедия Григория заключалась в том, что он не был первой любовью ни у Евланьюшки, ни у Нюши. И обрел счастье, когда вошел первым в Надино сердце.
Читать дальше
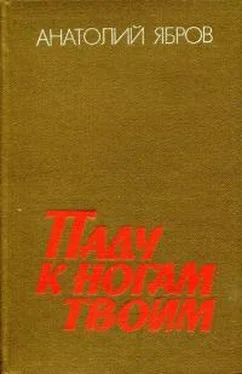





![Анна Шеол - По рукам и ногам. Книга 1 [litres с оптимизированной обложкой]](/books/433586/anna-sheol-po-rukam-i-nogam-kniga-1-litres-s-opti-thumb.webp)





