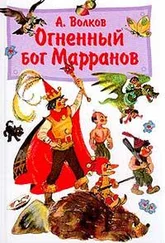По огородам нельзя было пройти — высокие сугробы снега скрывали под собой кусты смородины. Все собрались на улице, ожидали Малаховского. Тот вышел и решительно помахал рукой:
— Пошли. Они за горкой, в управе.
Партизаны присматривались к безлюдной улице, замечали на себе любопытные взгляды через кругленькие щелочки в разукрашенных морозом стеклах.
— Догадываются они или нет? — спросил Бондаренко.— Ты как, Малаховский, думаешь?
— Черт их знает. Спросил, где можно повидать полицию,— ответили и даже не удивились.
С пригорка открывалась вторая, более старая половина деревни, вокруг которой строились выселенные с хуторов. Хаты тут стояли в беспорядке. Небольшую площадь с севера замыкал старый, вероятно, еще барский дом с разрушенной верандой. От нее остались только четыре колонны.
"Там, вероятно, управа",— подумал Тышкевич и приказал на всякий случай остерегаться.
Вся атака выглядела детской игрой в белых и красных. Не верилось, что кто-то откроет огонь.
Спускались к площади, держась ближе к заборам. Только Бондаренко важно шагал посреди улицы.
На веранде над дверью висел литографический портрет Гитлера. Малаховский, ковырнув его дулом винтовки, сбросил на землю.
— Ага, попался, собака!
Дейка и Варачкин остались на улице, стерегли, чтобы кто-нибудь не сиганул через окно. Остальные пошли в хату.
Малаховский ткнул ногой дверь, пригнувшись, вошел в большую, как конюшня, комнату. Двое за столом играли в шашки. Над ними, нагнувшись, стояло еще человек пять. У порога — две бельгийские винтовки.
— В шашечки, значит, играем,— глухим, зловещим голосом начал Малаховский.— Встать! Порядка не знаете?
Парни испуганно жались под дулами четырех винтовок.
— Кто полицаи?
Парни трусливо переглянулись, но промолчала.
— Ага, оказывается, все. Ты тоже? — Малаховский ткнул винтовкой в веснушчатого, худощавого паренька.
— Что вы, дяденька, я так сюда зашел... Так что же вы, хлопцы, не признаетесь?
— А вы кто будете? — спросил коренастый, широкоплечий парень.
— Полиция, глаза повылезли? — возмутился Блажевич.— Сидите тут, а красные наступают. Почему порядка нет? Почему посты не выставили?
— Ну и выставляйте, если хотите,— отрезал парень.— Тоже мне начальник нашелся.
— А начальник где?
— В райцентр с бургомистром поехал.
— В таком случае собирайтесь, пойдем. Где еще двое?
— Дома, наверно.
Тех двоих вскоре привели под конвоем. Следом прибежали их матери. Теперь, очевидно, все догадались, что пришельцы — из леса. Высокая носатая женщина завывала и все порывалась к своему сынку, кричала сквозь слезы:
— Разве я тебе не говорила, так нет же, послушался этого пройдоху, этого злодея, этого Царенка.— И к партизанам: — Люди добрые, отпустите его, мальчонка еще, дитя глупое. Их же насильно тащили.
— Цыц ты,— огрызнулась Прусова.— Замолкни!
На улице собрался народ. Люди стояли молчаливые, настороженные. Тышкевич боялся долго оставаться в деревне: вдруг нагрянут немцы? Надо было отходить. Но что делать с полицаями?
Они топтались на месте растерянной кучкой. Один из них свертывал цигарку. Руки дрожали, из бумажки сыпался на снег крупно крошенный самосад.
"Неужели и те, что убили Фаню, вот так же тряслись бы?" — подумал Тышкевич.
Внешне безобидные, деревенские парни вызывали жалость и отвращение. Что их толкнуло в полицию? Жажда ириключений? Глупость? Принуждение?
— Что будем с ними делать? — спросил у Бондаренки.
Тот дожал плечами.
— Хрен их знает. У нас вот такой оголец евреев расстреливал. Знать бы хоть, чем они, эти сосунки, дышали...
Тышкевич подошел к толпе. Люди испуганно жались друг к другу.
— Обиды на полицию имеете?
Заговорили вразнобой:
— Кажется, не имеем.
— Свои хлопцы.
— А боже мой, мальчишки!
— Розог бы им...
Тышкевич, послушав разноголосые ответы, приказал часовым:
— Пустите их на все четыре... Придут наши, пускай судят. А вы смотрите, еще раз возьметесь за винтовки — плохо будет. На войне с такими не чикаются.
На краю деревни, опасливо озираясь, подошла к ним женщина, заплакала:
— Что ж, детки мои, вы их тут оставили? Сынков моих в неметчину отправили, а сами вот пируют.
Прусова грубо, по-мужски выругалась:
— Все либеральничаем...
Уже в лесу, словно оправдываясь перед ней, Тышкевич сказал, ни к кому не обращаясь:
— Если бы они хоть сопротивлялись... Не мог я, не мог... Это уж не война, а убийство,— и стал хватать пригоршнями снег.
Читать дальше