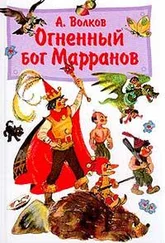Чабановский выскочил из саней, подбежал к привязанному к саням, схватил его за грудь:
— Говори, сволочь, успел донести?..
— Нет...
Коршуков смотрел на него обезумевшими глазами. Значит, правда. Значит, он шпик, предатель.
— Вы это о чем? Я ничего не знаю,— залепетал задержанный. У него вдруг пересохли губы, а лицо стало серым.
— Ты, друг, не финти,— пришел на выручку Чабановскому Выганец.— У тебя еще есть шанец на жизнь. Бери же его, пока просится в руки. Ясно?
Этот окруженец или черт его знает кто, снова стал безразличным и спокойным. Неохотно взглянув на Леньку, он поморщился.
— У меня шансов нет. Разве вы поверите? Черт с вами, расстреливайте. Лучше уж от своих погибнуть, чем от немцев.
— Да пойми же ты, дурная башка,— говорил Чабановский,— что ты нам совсем не страшен. Мы сегодня уходим из Заболотья. А люди почему должны за нас отвечать? Ты ведь понимаешь, люди о нас ничего не знали, как и о тебе. — Чабановский пристально следил за человеком, он, как и Коршуков, все еще сомневался. — Ну давай говорить прямо. Мы все, кого здесь видишь, убежали из лагеря. Думали дождаться своих. А теперь из-за тебя должны невесть куда идти.
— Я вам ничего не сделал.
— Скажи, донес на нас или нет?..
— Не доносил я.
— А когда должен донести?
— Да что вы, не шпион я. Неужели у вас глаза вылезли, своего от шпиона не отличите?
В допросе наступил тот критический момент, который часто встречается в юридической практике, когда у следователя нет веских доказательств. Следователь вдруг начинает верить человеку, находящемуся под следствием, а тот с радостью думает, что победил. И попадает в ловушку. Коршуков сам побывал в такой ловушке, сидя в гестапо. Но теперь Станислав Титович действовал скорее подсознательно, нежели расчетливо. Он слез с саней, не спеша подошел к задержанному, похлопал его по плечу:
— Молодчина! В семнадцатом стажировался?
Человек недоуменно посмотрел на него, на Чабановского, на Леньку. Растерянно похлопал глазами:
— Да кто же вы наконец, черт возьми?
— Значит, дурень, ежели не понимаешь. Тебя сколько ждать можно?
— Вот что, раз уж везете к немцам, так везите, — сказал он, с надеждой поглядывая на Коршукова.
— И повезем, — сказал Чабановский. — Садись в сани.
Ленька круто повернул коня на торфопоселок.
Часа через два Коршуков с Чабановским пробирались лесом на Заболотье. Остановились в редком кустарнике. Коршуков вытер рукавом вспотевший лоб, сдвинул на затылок шапку.
— Ах, черт, — с горечью проговорил он, — главного я так и не узнал. Ну о чем он думал, что у него было на душе, когда шел на эту подлость?
— Ничего у него на душе не было. Пусто. Таких всегда на любую подлость направить можно.
— А мне думается, что он чем-то был недоволен, ну и мстил.
— Глупости, Станислав Титович, глупости. Если б у нас одни лишь недовольные шли на службу к немцам — не беда. Много и таких, что при любой власти любят наверх взбираться. И лезут... по трупам. — Он вдруг резко изменил направление разговора. — Как ты посмотришь на то, чтобы Ядя пошла в Понизовье? Доходили ведь слухи, что там партизаны есть. Женщине, понимаешь, легче туда пробраться. А она у тебя боевая.
Станислав Титович хмурил брови. Ответил неохотно:
— Она пойдет, только ты с нею поговори.
— Ладно, Стась, поговорю.
Они молча пошли в деревню. Ветер, еще больше разгулявшийся к вечеру, старательно заметал их следы.
29
На Плессах по колено снегу. Сквозь голый березняк четко видна похорошевшая под снеговым покровом хатенка. Дверь — настежь. Тышкевич не мог вспомнить, закрыл ли он тогда дверь или нет. Если закрыл, значит, кто-то в хате побывал.
Осторожно, друг за другом шли поляной, покрытой прозрачными фиолетовыми тенями. Под ногами скрипел снег. На деревьях тенькали синицы. Где-то справа на суховерхой сосне стучал дятел.
В хатенке полно снега. На полу светилось желтое солнечное пятно, накрест перечеркнутое оконной рамой.
Тышкевич вошел в хатенку, заглянул за дверь — пусто. Значит, никого не было. А, судя по времени, должны были быть, во всяком случае обязаны были оставить условный знак.
— Заходите, хлопцы. Хоть тут не шикарно, а жить можно.
Высокий Малаховский, пригнувшись на пороге низкой двери, мрачно оглянулся:
— Тут я весь потолок ушанкой вытру.
— Пока снег убрать надо, — откликнулся Варачкин.
От прошлой ночевки осталось немного сухих дров. Пока Дайка растапливал низкую, без трубы, печку, вымели пол, позатыкали соломой щели. Дым выедал глаза, выгонял на двор. Он сочился сквозь щели, медленно струился вверх и таял.
Читать дальше