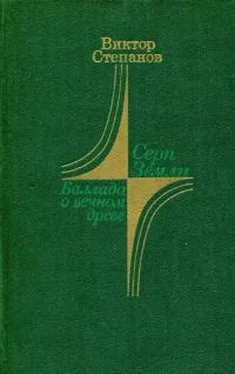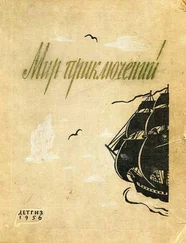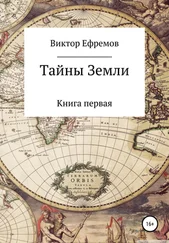Но Степан будет уже наверху. Скользя по мокрой траве на подошвах сапог, он скатится с вала редута в гущу тел и, не глядя, не выбирая, нащупывая нужное только каким-то новым, проснувшимся в нем чутьем, будет вонзать штык то в одного, то в другого, пока не заноет, как бывало от долгого махания косой, плечо. «Ай да солдат! Молодец, братец!» — услышит он краем уха похвальное слово заметившего его удаль офицера и не сразу поймет, что это о нем.
Лишь на секунду-другую переведет дух Степан, опустит винтовку и обернется на похвалу. И в эту самую секунду выскочивший из-за пушки, притворявшийся убитым турок хватит его сзади по голове ятаганом и побежит прочь. Не тот ли самый, которого однажды пожалел Степан?
Тупая белая молния ослепит и повалит Степана. Он даже не поймет, кто ударил и откуда. И, проникая стекленеющими глазами в голубую средь серого неба полоску, уже не ощущая боли, он пожалеет лишь об одном — о том, что никто из близких никогда не придет к нему на могилу. С этой горькой, безутешной, от минуты к минуте слабеющей мыслью он будет медленно умирать, ловя остывающим лбом прохладные капли дождя — как прощальное прикосновение любимых губ, слыша травяной шелест — как шепот последних бережных слов. И, совсем уже закоченев, он так никогда и не узнает, что лет через сто придет на это же самое место молодым, здоровым и сильным, как две капли воды похожим на самого себя, и, вглядываясь в поросшие буйной травой валы редута, в ржавчину старинных чугунных пушек, в дикие сливовые деревца, неизвестно почему растущие в поле, будет мучительно вспоминать, но так и не вспомнит всего того, что оставил здесь навсегда. В мавзолее, построенном в память погибшим под Плевной, в узкую щель отдернутой на саркофаге шторки он увидит гладкий и серый, как валун, череп со шрамом от ятагана и, пораженный откровением смерти, так и не воскресит — даже на миг — живое, родное на нем лицо… Но увидит он это дважды…
— Плевен, — прошептал Велко, тронув Василия за локоть. — Добре дошли…
Они остановились на холме, не выходя из тени развесистого бука. Взглянув в направлении, указанном Велко, Василий ничего не увидел, кроме посеребренного лунным светом минарета, — крыши города тонули в тумане.
— Вперед… — позвал Велко, выступая из укрытия крадучим, кошачьим шагом, и Василий, как условились, выждав несколько минут, неслышно скользнул за ним. У поворота следующей улицы Велко тихонечко свистнет, если путь свободен, и снова бросок в темноту. Еще бы — он пройдет с завязанными глазами, потому что родился и вырос в Плевене.
Рука Велко снова легла на плечо — знак того, что им надо соблюдать тишину. Еще рывок через площадь — вон к тому темнеющему круглым куполом зданию, и они пришли. Да, теперь оставалось пересечь лишь вот эти предательски мерцающие на мостовой камни — луна сегодня явно была против них.
— Вперед… — опять шепнул Велко и, взяв Василия за руку, боком начал продвигаться вдоль деревьев, отбрасывающих спасительную тень. По темным пятнам они добрались до ограды и в тот момент, когда где-то позади раздались трели жандармских свистков, перемахнули через железные прутья. До предупредительно кем-то приоткрытых дверей оставалось каких-то десять шагов. Через минуту они уже были в холодной и темной, отдающей сыростью гранита зале.
Под высоким сводом становилось громким даже дыхание. Но вот впереди внезапно вспыхнула свеча. От человека, невидимо державшего ее, качнулась, уродливо легла на стену тень, и Василий различил в бликах проступившей позолоты нечто схожее с иконостасом. Наверное, это и был иконостас: одно за другим мелькнули плоские темноглазые лики святых. Велко, взяв у невидимки свечу, прошел влево и, упреждая Василия, шагнув вперед, начал спускаться, предупредив:
— Осторожно, крутая лестница…
Снизу пахнуло сыростью, спертым воздухом подвала.
— Ну все, — сказал Велко. — Теперь, кажется, на месте. Здесь ты как у Христа за пазухой. — И засмеялся буквальной правдивости сказанного.
В дрожащем свете свечи Василий увидел в углу, под сводчатым каменным потолком, расстеленный полушубок, шинель, очевидно заменявшую одеяло, и сразу же захотел спать.
— До вижденья, — проговорил Велко, всовывая в руку Василию сверток. — Здесь хлеб и брынза… До утра.
Он пристроил в подсвечник из гильзы свечу, неслышно поднялся по лестнице и пропал, поглощенный мраком. Василий остался один.
Ну что же, ему было не привыкать к неожиданным ночевкам, даже вот к такой — в церкви. Он достал из кармана пистолет, проверил, пересчитал на ощупь патроны в обойме и сел на мягкую, сразу отозвавшуюся теплом овчину. И, как только вытянул ногу, почувствовал боль, о которой забыл, пока сюда добирались, — рана, полученная полгода назад, все еще давала о себе знать. «Потерпи, родная, теперь недолго», — сказал он про себя, и, хотя суеверно не любил загадывать на завтрашний день, мысль о возможно скором конце лишений, невзгод, ежечасного ожидания беды расслабила. Он прилег, натянул на ноги шинель и погрузился в ту, выработанную партизанским бытом дремоту, которая оставляет человека чутким, готовым вскочить и схватиться за оружие по первому шороху. Он знал, давно приметил: его долго будет держать в состоянии полусна-полуяви привычка мысленно подводить итоги прожитого дня, именно прожитого, если к вечеру ты остался живым. А живым ему надо было остаться обязательно — хотя бы еще дня на два, на три, пока не доберется до своих и не передаст сведения, ради которых он, собственно, и рисковал жизнью на этой враждебной сейчас, но уже давным-давно ставшей родной земле.
Читать дальше