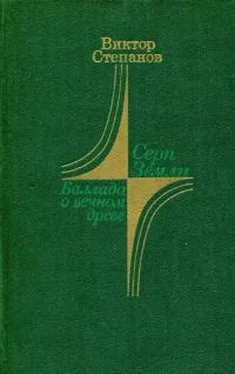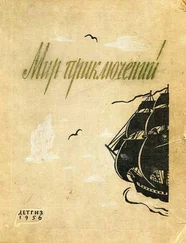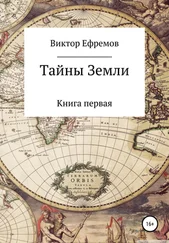Когда ноги уже начинали заплетаться, ротные вызывали вперед песенников. Лукаво подтолкнув Степана — мол, знай наших, сныховских, — в первые ряды выходил Матвей и веселым, не под стать его дородности тенором заводил походную. Матвей пел от души, но надолго ли хватало бодрости? Опять опускались плечи, и, не попадая в ритм шагам, начинали вразнобой колыхаться серые ряды. И опять ротный, сам едва переводя дух, подгонял, командовал: «Подтянись… Не дремать… Шире шаг!»
Куда они спешили? Зачем? Но они действительно торопились, и всей этой массой оформленных в роты и батальоны людей руководила неведомая, таинственная сила, нетерпение встречи с врагом, жажда, как они говорили, «дела».
Врага Степан представлял смутно, разве что по плакату, пронесенному однажды перед строем батальона. На огромном, со скатерть, полотне был нарисован толстомордый, с черными усами турок, вспарывающий живот молодой красивой бабе. Из живота торчала головка младенца. И мальца этого рвался задушить турок другой рукой.
«Приди на помощь брату!» — взывал плакат. Читать Степан не умел, да и картинка показалась очень страшной, но чувство, что кого-то несправедливо обижают и кого-то надо выручать, это чувство осталось. Где-то били, истязали, грабили, целыми деревнями вырезали болгар, братьев по вере. И надо было спешить им на помощь.
Вблизи живого турка Степану довелось увидеть только здесь, под Плевной, при первом штурме. Смуглый, с вытаращенными глазами верзила, в красной шапочке-феске, перетянутый шелковым кушаком, сам наткнулся на штык и так по-заячьи жалобно закричал не то от боли, не то от страха, что не захотелось его добивать. Степан отдернул винтовку и вгорячах так поддал турку сапогом под зад, что тот кувырком скатился с редута.
Потом Степан о своей доброте жалел не раз, особенно после того как в сожженной дотла деревне увидел болгарина и болгарку, повешенных прямо на яблоне. Звери казались добрей…
К болгарам привык сразу, как будто сто лет здесь прожил. «Стало быть, и вправду к братьям пришли, к родне», — думал Степан. Похожие одеждой вроде бы на хохлов, мужики встречались — красавцы писаные, женщины вроде бы как подиковатей. «И то понять надо, напуган народ до смерти этими кровопивцами», — рассуждал добродушный Матвей.
«Смерть хоть и страшна, но все ж не за так», — думал Степан, натягивая на ноги шинель. Начинало тянуть рассветным холодком.
— Как думаешь, возьмем завтра Плевну али нет? — спросил из угла палатки солдат, тоже, видать, не сомкнувший глаз.
— Надо брать, пора уж… — неопределенно ответил Степан, поворачиваясь на бок и чувствуя, как его начинает наконец сковывать тяжесть болезненного забытья.
Степан засыпал мучительным предштурмовым сном. Был ранний рассвет 19 июля 1877 года, над Плевной занимался серый, набухший тучками день, и случайно перешагнувший вчера, во втором штурме, через смерть Степан не знал, что всего лишь через полтора месяца он будет пятнадцать тысяч девятьсот девяносто девятым воином, сложившим голову в третьем штурме.
С утра 30 августа будет моросить мелкий занудливый дождь, и за его завесой не покажутся такими уж страшными холмы плевенских редутов. Командование решит опять брать их в лоб, силою. И по всем боевым порядкам, вызывая улыбки, из уст в уста перейдут слова, сказанные одним из генералов: «Что смотреть на этот глиняный горшок, пора его разбить о дурную голову».
В рядах пополненной новобранцами роты Степан будет стоять, готовый к развертыванию в первую цепь, и даже не заметит, когда начнется штурм. С турецкого редута ударит одна пушка, вторая… Молодой, совсем еще юный, в новом, с иголочки, мундире, прапорщик, выхватив саблю, побежит вперед, оскальзываясь на мокрой глине до блеска начищенными хромовыми сапогами. Через десяток-другой шагов, успев оглянуться на трепещущее над ним крыло знамени, он упадет, ткнется лбом в землю, простреленный в голову навылет. И сразу поломаются, заволнуются идущие за ним со штыками наперевес шеренги.
Памятуя о том, что гранаты вернее достигают обычно тех, кто мешкает, старается отстать, Степан ринется вперед, в гору, тоже оскальзываясь пудовыми от налипшей глины сапогами. Что-то знакомое в очертаниях холма, в корявых ветках кустарника мелькнет мимо. «Не тут ли упал Матвей?» И, по щиколотки увязая в глине, упорно карабкаясь наверх, он лишь мимолетно вспомнит, что пробегал по смятому, затоптанному сотнями ног холму братской могилы. И опять ударит по сердцу чей-то испуганно зовущий голос: «Носилки сюда!» Но рядом, заглушая стоны, кто-то во всю глотку закричит «Ура!». И сверху, из-за камней, ему ответит бросающее в озноб турецкое «Алла!». И все опять смешается, сольется в одну круговерть — и свои, и чужие, и сталь, и дым, и туман, и огонь…
Читать дальше