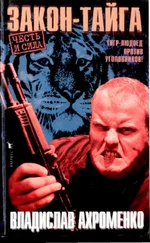Бальзак выпил за жизнь пятнадцать тысяч чашек крепчайшего кофе. А кто считал? Отважный Дмитрий Донской в конце Куликовской битвы потерял сознание от перенапряжения, то есть, если говорить современным языком, от избытка эмоциональных перегрузок. Кто знает точно? Летописец? А не запнулся ли княже? Не был ли ранен? Или контужен?
Правда, иной раз он мог совершенно убежденно утверждать, что в многотомную Библиотеку всемирной литературы среди ее авторов наряду с Флобером вошел и Ф а у с т, но это в целом не умаляло масштабности интеллектуальных горизонтов Лаврентия Игнатьевича и даже наводило на грешную мысль: а был ли вообще Гёте? Но мысль возникала мимоходом, ибо вспоминалось, что в одно из прежних собеседований было сказано, что в достославном городе Веймаре на втором этаже Дома Гёте можно видеть в застекленном шкафу золоченые корешки сто одного тома его сочинений, а это, брат, штука бесспорная и неопровержимая, недаром Бинда написанную им собственноручно и ладно изданную книгу «Нефтяник с полуострова сокровищ» разнес с различными дарственными надписями по одинаково авторитетным кабинетам многих солидных учреждений и непреходящий запас ее экземпляров — по утверждению Мэм, треть тиража — держал в собственном сейфе, чтобы одаривать ими понравившихся ему визитеров. Но ценные мысли он дарил все же охотнее, ибо книга стоила гривенник, а переговоры насчет ее переиздания затягивались, хотя и небезнадежно.
Вот и вчера кому-то Лаврентий Игнатьевич мудро втолковывал, наслаждаясь своим сопереживанием, по поводу творческих и семейных обязанностей: «Пойми же ты, головушка садовая, Райкин прав касательно рождения наследников — есть вещи, говорит, которые надо делать самому даже при наличии здорового коллектива. То же, я скажу тебе, милый мой друг, относится и к книгам. За тебя напишут, будь уверен, но напишут уже совсем не так, как это можешь сделать ты сам. Каждому — свое. Не надо трактору летать, а утюгу плавать. Зачем по мелочам упираешься, как вол на пахоте? Зачем размениваешься на заметки и статейки? Читаемо, братец, читаемо, но все равно тебе никогда не угодить и благодарности никакой вовек не услыхать. Публика эта умная, но, скажу откровенно, чванливая и неблагодарная. Это и ежу понятно! Всяк мнит о себе гораздо больше, чем может вообразить. Поэтому паши свое и только свое, а плуг у тебя не хуже, а лучше других. Дерзай, брат, и твое имя украсит полку живых классиков. А что касается ее, — Нея так и не узнала кого, — могу лишь дружески сочувствовать. Даже великие говаривали, что против супружеской неверности, как против смерти, нет никаких средств».
Долго еще говорил Лаврентий Игнатьевич, и казалось, что бедам неведомого Юрентия сочувствующий Бинда был даже рад немного, поскольку они позволяли ему блеснуть красноречием.
Но сочувствие его все-таки было искренним. А в конце разговора он неожиданно перешел на школьные темы и заявил, повысив голос: «Я тебе скажу, что родители двоечников и троечников должны платить государству за обучение своих оболтусов. Это слишком большая роскошь бесплатно воспитывать остолопов!»
«Правильно!» — согласилась с ним тогда Нея, а сейчас под легкий перестук пишущей машинки Мэм она не спеша заполняла чертежным почерком карточки на технические новинки из переданной ей Риткой Вязовой внушительной кипы научных вестников. Нея вполне могла бы написать все нужное быстро на листке бумаги и передать Мэм, чтобы та отпечатала текст на карточках, как предписывалось инструкцией, но не хотелось тревожить Мэм и мешать ей — вот закончит человек и будет спокойно перечитывать «Сагу о Форсайтах», да к тому же авторы инструкции не были замшелыми догматиками и силой пункта третьего специальных примечаний допускали замену машинописи чертежным почерком.
Итак, б ю р о трудилось. Но да не пожалует читатель снисходительной усмешкой упрощения бегло поданную картину. За кажущейся простотой действий его сотрудников даже при минимуме читательского терпения вскоре обнаружатся события и дела не примитивного свойства, и в том нетрудно будет убедиться, если и дальше довериться некоторым размышлениям, наблюдениям и конечно же воспоминаниям нашей, безусловно положительной, героини.
V
А к Восьмому марта Гришка Бурин, жеманно изобразив книксен и подобие светской улыбки, торжественно вручал ей, Ритке Вязовой и конечно же Мэм по дюжине живых гвоздик. Разумеется, это было чудовищно. Букетик из трех чахлых цветочков, завернутый в целлофан, частники у старой стены давнишнего кинотеатра в сквере торговали за два с полтиной. Но Гришка вручал именно отборные настоящие гвоздики — алые, с укрупненными, как нарочно, до неправдоподобной величины лепестками, будто выстриженными сверху и по краям аккуратными мелкими зубчиками, и с темно-зелеными, тугими и сильными стеблями, готовые простоять дома в обычной воде целехонькими и свежими не полдня, а неделю, коль не больше: и это было уже не чудовищное, а несказанно приятное и удивительное превышение всех норм восьмимартовского внимания, если таковые нормы имеются в отношениях начальства с подчиненными. И хотя Нея догадывалась о том, к а к Лаврентию Игнатьевичу удалось раздобыть эти алые гвоздики в загородном цветоводческом совхозе, она не отказалась ни от цветов, ни от предпраздничной премии, с деликатной, но размашистой скромностью положенной им троим в безмарочные конверты рукою шефа, предусмотрительно упомянувшего тонкими, но вроде не совсем злыми устами Гришки Бурина, что в данном месте никаких нарушений — ни моральных, ни финансовых.
Читать дальше
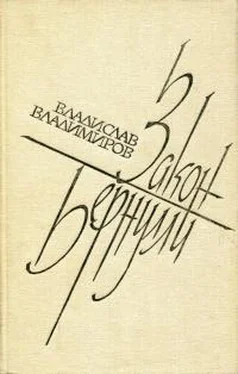

![Владислава Мека - Законная Преступность [СИ]](/books/31850/vladislava-meka-zakonnaya-prestupnost-si-thumb.webp)