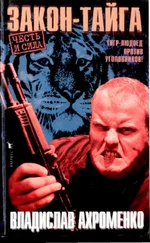Вот тогда бы и позволил себе усмехнуться Коновалов сакраментально, со значением, при Нее и сказать ей по этому случаю что-нибудь запоминающееся, ибо этому полувоенного покроя автомобильчику совершенно были противоестественны и розовая кукла, и намокшие желтые шары, и разноцветные ленты, протянутые от радиатора через верх ветрового стекла по всей крыше, и нелепые ездоки.
Совсем недавно Коновалов возвращался из дальней поездки, и самолет против обычного посадили в промежутке трассы — не в крупном порту, как это всегда водилось, а на мало кому известном аэродроме. Любой аэропорт угадывал Коновалов сначала по взлетно-посадочной полосе и редко когда ошибался. Если полоса была широка и длинна, то и здания аэропорта, наземных служб, привокзальная площадь, да в конце концов и сам город соответствовали ей чин по чину. Но в жизни своей Коновалов даже не подозревал, что теперь может существовать на свете столь неказистое место, прямо-таки ископаемая редкость в дни стремительного и общедоступного комфорта. Но такое неказистое место все-таки существовало, и Коновалову почудилось, что приземление на оном с негаданной волшебной счастливостью отбросило его в давнюю молодость, и он вопреки всем не разделил общего уныния, сразу вспомнив курсантскую пору и славного инструктора Гредова и еще очень м н о г о е вспомнив с пронзительно-горьковатой четкостью.
Он с самого верха поданного трапа, задержав выходивших пассажиров, попытался увидеть — определившись в момент, где тут юг, где север, восток и запад, — д р у г о й аэродром, знакомый ему до каждого кустика и каждой травинки, но конечно же ничего не увидал, растерявшись почти обмануто, но все еще надеясь.
Мощь здешней бетонной полосы никак не вязалась с захудалым ландшафтом вокруг, — у Создателя с большой буквы, когда в незапамятные времена, еще до громады этой шикарной бетонки, он проделывал здесь свои творческие эксперименты, просто не оказалось никакого воображения.
Но это, знал Коновалов, было не совсем так. Сколько минуло лет, а хорошо помнилось ему, как в офицерах Женька Марьин истребовал в одну из суббот свободный аэродромный вездеходик, заполнил его желающими и, ко всеобщему удивлению, проехав верст сорок по горячей степи, затащил их в пыльном городке не в ресторан, источавший лимонадные танго и щекочущий ноздри шашлычный запах, а в полузатемненные комнатенки одноэтажного краеведческого музея, где в кассе с пяти рублей им не могли дать сдачи и, уважив авиационные погоны и небывало великое по здешним понятиям число посетителей, пропустили бесплатно, по графе «рядовых» военнослужащих.
Был, конечно, потом и ресторанчик, была и толстенькая официанточка Римма, обслуживающая надоевших ей клиентов с таким выражением лица, словно во всех подробностях знала их самые нехорошие секреты; приметив офицерскую компанию, она ожила и враз стало милою Риммочкой, с которой напоследок было жалко расставаться, потому как Риммочка, кроме кулинарных, обнаружила немалые познания в новоанглийской экономике и литературе; были и томные танго и сочные шашлыки; был и егозливый певец в клетчатом костюме и лакированных туфлях — уже в летах, но удачно молодящийся — с припудренным кукольным личиком, светло-карими, как у лисенка, глазками, он волочил за собой по деревянной эстраде длинный шнур, словно привязь, и, сладостно подергиваясь, вталкивал в микрофон слово за словом под разухабистый аккомпанемент бойкого оркестришка, песенка выходила преглупейшей, но бодрой: «Сигарета, сигарета, только ты не изменяешь. Я люблю тебя за это — ты сама об этом знаешь». «А-Алик! «Жу-рав-ли-и»! — зычно призвали его с мест наперебой. — «Дымилась роща»! «Я встретил вас»!.. «Мой старый папа бакен зажигал»!..» Заметив душевное тяготение Риммочки к летчикам, занявшим столик неподалеку, он подмигнул Марьину, верно угадав в нем старшего, браво поправил черную бабочку, озарил друзей подкрепляющей их дух улыбкой, сотворил музыкантам дирижерский жест и пружинисто замаршировал на месте, высоко подымая колени и суча кулачками возле груди и разукрашенного на испанский манер широкого поясного ремня. «Там, где пехота не пройдет, где бронепоезд не промчится, угрюмый танк не проползет, там пролетит стальная птица! Турбина, громче песню пой, неся вразмах стальные крылья…» Любимец зала и ресторанного руководства, Алик охотно слушался публики, радушно пел все подряд, потому что просьбы немедленно по исполнении подкреплялись отнюдь не словесными щедротами, — и Коновалов, расчувствовавшись, порывался было к Алику со своим желанием услышать песню об эскадрилье «Нормандия-Неман», но Женька осадил его предостерегающим взглядом, не забыв, впрочем, издали ответить на улыбку Риммочки.
Читать дальше
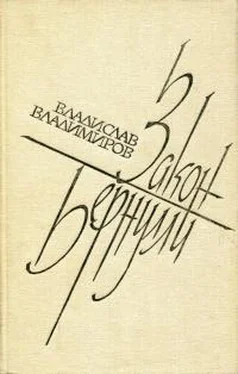

![Владислава Мека - Законная Преступность [СИ]](/books/31850/vladislava-meka-zakonnaya-prestupnost-si-thumb.webp)