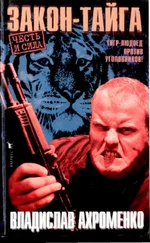Нея засмеялась:
— А когда автор не называет действительных фамилий, то сама документалистика су-ще-ству-ет, а не живет, и тогда ей, по сути, не важны живые люди. А ведь человек — это часть твоей личности, каждый колокол звонит по тебе. Не смотрите на меня так удивленно. Этой истине Джона Донна триста лет. Хемингуэй стряхнул с нее пыль старины и вернул эту истину двадцатому веку.
«Умница! — похвалил Нею Коновалов, хотя и не вслух. — Но не слишком ли претенциозно: Донн, Хемингуэй! А почему не Петров, не Сидоров, не Радищев, а Донн?»
Нея заговорила о том, как училась в аспирантуре, и был среди аспирантов один бывший публицист Голосов, не без резона сообразивший, что наукой заниматься безобиднее и приятнее, чем его прежним ремеслом. А вот Лаврентий Игнатьевич Бинда посчитал бы наоборот. Так кто же все-таки прав, — судить трудно.
А вот ей целевую аспирантуру пришлось оставить из-за того, что, во-первых, трудно учиться, имея малого ребенка, — хотя он с матушкой, но душа не спокойна; во-вторых, из-за своего, как она сказала, п о к л а д и с т о г о характера, она слишком забежала с темой вперед, а надо было не особенно поспешать, умные люди ее наставляли еще заранее, а источники приходилось читать почти все исключительно на английском языке.
Коновалов изучающе слушал Нею, в душе не отойдя от Джона Донна и горячо желая спросить, а кто же он, этот Джон Донн, но самолюбие не позволяло спросить. Коновалов жалел Нею, как мог только жалеть свою сестру, если бы она была у него, такая сестра, но сестер у Коновалова не было, и сквозь жалость, испытываемую к Нее, накатывалось на него какое-то тревожное представление, а именно: как это могли н а с т а в л я т ь «умные люди», когда она днями, неделями, месяцами находилась далеко от дома, от дочери, от семьи, мужа, близких, подруг, и выходила в этих его представлениях невероятно постная картина с почему-то лысым деканом и моложавым отставным публицистом Голосовым, — от этой картины Коновалову становилось тошно, но от другой — гораздо более ужасной — его бросало в ревнивый жар.
IV
Коновалов ощущает себя будто со стороны, отрывается от себя и спокойно смотрит на того Коновалова, который остался рядом с Неей. Тот, оставшийся Коновалов, не чувствует, что находится как бы на сцене или в телестудии, где уже идет передача напрямую в эфир или же видеозапись.
На студии, вживаясь в роль, стараются держаться куда естественнее и проще. И разве не смешно, если она бережно говорит т о м у, оставшемуся Коновалову:
— А хорошо, что вы такой простой человек!
Чуть жеманным взглядом она экономно, оставляя место и для иных возможных чувств, восхищается немножечко собой и тем оставшимся с ней Коноваловым и, поскольку никого другого рядом с собой не видит, смотрит в глаза Коновалову без хвастовства и доверчиво.
Тот оставшийся Коновалов от бережности ее не тает, хотя эта бережность и сладка ему, — усмехается со значительностью:
— Простой, говорите?
Но сквозь значительность слегка тянет первобытным неудовольствием и разочарованностью в ожиданиях. Т о т Коновалов хотел бы оценки повыше.
Нея немного молчит. Ей определенно любо излишне завышенное самомненьице Коновалова и его невысказанное возражение: мол, никакой я не простой или хотя бы не такой уж я п р о с т о й.
— Так мне показалось, — говорит Нея.
Ах, сколько раз убеждался Коновалов, что лучше всего прикинуться простаком, существом не ограниченным, но и особо не претендующим на возвышенные и критические размышления насчет нравственного качества минувшей эпохи и прицелов на будущее.
— Вы сказали: «Так мне показалось». Но может, без «так»?
Коновалов отсек «так». Выходило утвердительное «Мне показалось». Да нет же, выходило вовсе не утвердительное, а полувопросительное, и причем полувопрос получался с немалым сожалением и звучал обидно. «Мне показалось? Мне напрасно показалось, вы совсем не тот человек, за которого выдаете себя, которым хотите не быть, а казаться, и зачем вам вся эта игра, скажите мне по-честному, признайтесь!»
Коновалов не признается. Труднее всего говорить правду, но ее надо говорить, как надо помнить сказанное некогда, еще в прошлом веке, американским живописцем и графиком Сарджентом — его репродукции обожает Лидия Викторовна: «Всякий раз, как я пишу портрет, я теряю друга». И не говорит Коновалов в с е й правды, это выше его сил — признаться.
Он снова восхищается ее способностью тонко играть на словах и фразах, на оттенках их смысла. Он думает совершенно непроизвольно об этом, унижая себя, а не ее обидной льстивой мыслью: ее муж, наверное, неспроста «дал деру» от нее, она в полуфразе проговорилась сама об этом и пожалела, но было поздно, Коновалов фразу услышал, хотя притворился, что не разобрал, о чем речь шла, и специально не переспросил. Наверное, не выдержал ее муж интеллектуальных нагрузок и решил удалиться от нее, но не от родительского дома, а дать ей одну из комнат ни у него, ни у его высокопоставленных родителей совести не хватило, и на алименты, поди, тоже не хватает совести у этих чересчур совестливых людей типа ее бывшего мужа. А интересно Нея говорит: «Трудно быть мужем поэтессы: представляете, как ей скучно с мужем? А чтобы не было так, ему надо каждый день новую кожу менять». Он ей возражает: «Кожу менять не надо каждый день, и вообще из кожи не надо лезть, надо оставаться самим собой, а не семицветной радугой, которая, по словам одного классического героя, есть оптический обман, не более».
Читать дальше
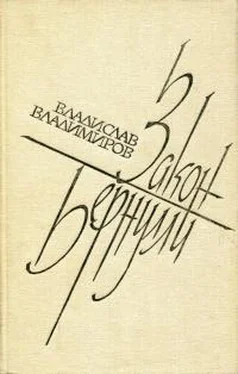

![Владислава Мека - Законная Преступность [СИ]](/books/31850/vladislava-meka-zakonnaya-prestupnost-si-thumb.webp)