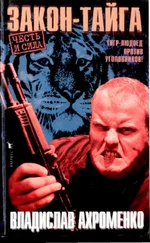Шофер ожесточенно и косо повел губами, мол, безнадежное, неисправимое дело.
Внезапно Коновалову стало стыдно за себя, — какой все-таки несносный он и высокомерный: только себя полагает хранителем истины. Поделом тебя сразил шофер, и Нея тоже поделом подсекла, когда заговорил высокими словесами об этой чуть было не потерянной подписке. «А ведь разве не может быть такого, — спросил он себя, — что Нея не умничает и не рисуется, а просто ей хочется быть самой собой, а быть такой просто не с кем. С Биндой, что ли? Ведь ничего не зная о человеке, ты уже возомнил себя чуть ли не душеведом-прозорливцем».
Коновалов, виновато отводя от себя разговор, спросил Нею, где она изучала иностранный язык. Нея ответила, что в о с н о в н о м в университете, и добавила, что разве это неудивительно сейчас: персонаж с языком. Не понял сначала Коновалов. А оказалось просто, даже слишком просто:
— Раньше люди на двух и на трех языках говорили, и это не казалось чем-то сверхъестественным. Вот Пьер у Льва Толстого или Андрей Болконский… Да что там Болконский, у нас в университете преподаватель, ему под восемьдесят, девять языков знал, английский и французский еще с гимназии. А сейчас если кто иностранным более или менее сносно владеет, так на него чуть ли не пальцами тычут — вот, мол, какая диковинка, а?
Все было в рассуждениях Неи как будто бы правильным, и даже Сергей Сергеевич молчаливо согласился с ней, но Коновалову такие, в лучшем случае наивные, рассуждения было слушать неприятно, и он, собравшись с духом, негромко, но внушительно стал ей возражать, что совершенно напрасно мы сейчас иногда очень бездумно смотрим в собственное прошлое и безо всякой на то надобности начинаем его украшать тем, чего на самом деле никогда не было, да и не могло быть. Намеренно выбирая из прошлого только значимые и добропорядочные, с нашей точки зрения, фигуры, мы руководствуемся, конечно, благими намерениями. Мы часто вспоминаем о том, как жило дворянство, как оно лучше говорило на французском, нежели на своем родном русском языке, какие благородные идеи занимали умы его лучших представителей, но при этом невольно как-то забываем, что дворяне были ничтожным меньшинством великого н а р о д а, упомянув о хрестоматийности своих аргументов, довольно резко говорил Коновалов. Но в конце концов чем это может обернуться и оборачивается? — спросил он у Неи.
Нея подавленно молчала, и тогда Коновалов доверил ей свой вывод о том, что в конце концов все это оборачивается вопреки настойчивым общим формулам тем, что у непредубежденного и и малоискушенного читателя вольно или невольно создается наивное мнение насчет «нравственного качества» минувшей эпохи.
— Тогда скажите мне, — строговато, но доброжелательно вопрошал Коновалов, чувствуя за собой безмерную правоту и красивость им говоримого, — для чего тогда совершалась Революция? Не для того ли, чтобы вырвать великое большинство народа из скотской жизни, чтобы дать возможность человеку стать человеком, увидеть мир и решительно переделать его по Марксу и Ленину?
— Решительно и с умом, — вставила Нея.
— И с умом! — возбужденно согласился Коновалов, сожалея, что не бесконечен этот праздник взаимного дарения мыслей, и он спешил говорить обо всем, о чем думалось ему и Нее.
— А вот писателям, похоже, мало той жизни, которой они живут, — утверждал Коновалов, радуясь, что Нея слушает его внимательно и смотрит с доброй благодарностью. — Они свою личную жизнь, не все, конечно, но довольно многие, находят слишком скудноватой, а потому тороваты на вымысел, примысел, домысел. Быть может, я не прав, но, заметьте, чтобы стать хорошим писателем-документалистом, которого не только читали бы, но и к чьему мнению еще и прислушивались бы, одной одаренности и даже таланта сейчас маловато. Нужна отвага, смелость, нужна честность и принципиальность. Нужно великое самообладание, потому что приходится писать не о выдуманном, а о ж и з н и. Вот штука-то! Жизнь!..
— Говорите, говорите, — попросила Нея, тронув легонько его за руку. Коновалов неожиданно смутился, но решил высказаться до конца:
— Писатель-документалист, если хочет жить в ладу со своей совестью, обязан быть готов на активное сотрудничество с собственными героями и на большое противоборство с антигероями. Не всегда последнее безопасно, бывают и жертвы… А писатель-беллетрист почти всегда живет в ладу со своей совестью и со своими героями, даже самыми что ни на есть злодейскими. Он их всех волен даже умерщвлять, продлевать им жизнь, одаривать благородными или скверными поступками, — витийствовал Коновалов, удивляясь, как у него все это складно получается, и немного гордясь этим. — А в документалистике надо и умерших и живых людей по их именам точно называть, а не по выдуманным. Конечно, бывают исключения, случаются приемы, — тут Коновалов передразнил кого-то: — «Автор по вполне понятным причинам не называет героев действительными именами».
Читать дальше
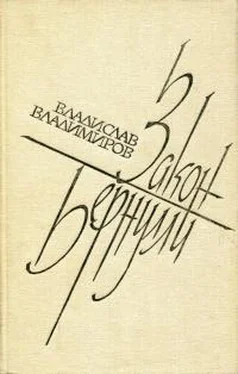

![Владислава Мека - Законная Преступность [СИ]](/books/31850/vladislava-meka-zakonnaya-prestupnost-si-thumb.webp)