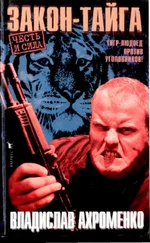Растирая могучую волосатую грудь жестким вафельным полотенцем, Лавский говорил Горбачеву: «Жаль, что твой ночной рассказ не слышали эти сони и Бинда-старший. Тот обязательно исполнил бы свой репертуар: «боинги», крючки, Плоешти, паспорт… А знаешь, я ведь тоже перед законом небезгрешен. Ты восемнадцатилетним стал с шестнадцати лет, а я с семнадцати. А сколько у нас по стране таких? Мно-о-го! Слушай, Марьин, ты теперь близок к верхам, подскажи, чтобы провели закон насчет пенсий и вообще — исчислять нашенскому поколению возраст на год-два меньше. Я серьезно говорю, не шучу: полстраны себе годы добавляли, чтобы попасть на фронт. Подумаешь об этом, ребята, и жить хочется, жить, а не на пенсию!.. У нас в десантных войсках сплошь такое встречалось… А сейчас, интересно, сумел бы, не дай бог случись что, патлатик нынешний себе годы набавить?»
Марьин и Горбачев не усомнились.
«А мне вот что-то не верится, — упрямствовал Володька, — хотя я сам не раз читывал о верности традициям и заветам, о преемственности поколений, о… А впрочем, ребята, старею, наверное. О нас же то же самое говорили: куда, мол, вам, желторотым, вот мы его, супостата, шашкой, шашкой, как Клим и Семен — вождей по именам запросто старики называли».
«А Жаланашколь? — спросил его Горбачев. — Разве это не убедительное доказательство д е й с т в и е м? Там же ребята девятнадцатилетние давали кое-кому прикурить…»
Горбачев собрал в полотенце бритвенный прибор, мыльницу, зубную щетку и поднялся.
«Ну что умолк? — грубовато спросил Володька, — Выходит, твоя логика…»
Горбачев перебил:
«Логика, братцы, тут не только моя. Логика тут проще простого, помните Пабло Неруду, — как он об Испании? Я помню, могу наизусть: «Испания не умерла. Она учит бороться за свободу. Нет, не умерла ты, земля трудолюбия, пшеничных колосьев, виноградной лозы и самоотверженной отваги».
«При чем тут Испания?» — «Как — при чем?» — возмутился Горбачев, упрямо поднимаясь по тропе и не оборачиваясь.
«Вот говорят, что легенды о прошлом, ребята, — это голос будущего, встревоженного настоящим, — продолжал он. — Говорят. Складно сказано, да не совсем правильно!»
«А как правильно?»
«Да вот так. Как для моего покойного бати Испания была святым понятием свободы, так и для нас вместе с ней не в прошлом, а в настоящем — Вьетнам, Лаос, Ангола… Мне батя рассказывал, по всей стране, в каждом городе на видных местах вывешивались карты, а на них отмечали красными и черными флажками ход боев в Испании».
«Мы это и из литературы прекрасно знаем, — заметил Володька, взглядом приглашая Коновалова в союзники — поднимались они рядом. — Пионеры тогда носили пилотки, испанками назывались. В кино видели. А сейчас и детишки не те пошли».
«Снова ты за свое. Как в старом анекдоте про боржом, то тебе не то, это. Хотя по глазам вижу — ерничаешь. А зачем? Не поймешь тебя иногда, где ты шутишь, а где серьезно. У Женьки научился. Давай, давай! Но есть же на свете очень и очень серьезные, ответственные вещи, над которыми умненько высмеиваться точно так же бестактно, как травить анекдоты у могилы родного отца».
Горбачев остановился, переводя дыхание:
«Согласен, конечно, детишки пошли не те. Давайте посидим немного, спешить некуда. Смешно сравнивать школьника тридцатых годов и нынешнего. У моего Игоря с третьего класса английский, да сам ты жаловался, что у твоих по математике такие программы, что умной твоей головушке не под силу. Акселерация не только в физическом смысле, но и в духовном. Но разве загасает революционность? Простите, не загасает. Иначе мы были бы не мы. Остается все, что было свято для наших отцов, для нас».
Про Игоря Горбачев сказал чуть дрогнувшим голосом. Сдержанный до грусти, но отнюдь не благостной, он у Марьина, который именовал его с оттенком одобрительной иронии не иначе как натурфилософом, числился в ранге почти святого человека, совсем не пившего, курившего чрезвычайно редко, державшегося за правило — не продавать честную полноту жизни сладостным скоротечным или же долгим мгновениям мелких и крупных пороков. И вовсе не болезни сотворили его убежденность в том, что только такой образ бытия единственно стал для него приемлем, — сам он был на зависть прочно скроен и отменно здоров, а уверенность в несомненных преимуществах трезвости над любой захмеленностью, чистого воздуха над никотинным дымом, стакана простой воды над кружкой пива, глотком водки или рюмкой медалированного вина, верности постаревшей жене над сомнительной радостью полуслучайных утех, — эта уверенность его была несокрушима, хотя сам он никогда не настаивал на собственной правоте, снисходительно выдерживая все шуточки и насмешки по поводу своей, так сказать, нетипичности.
Читать дальше
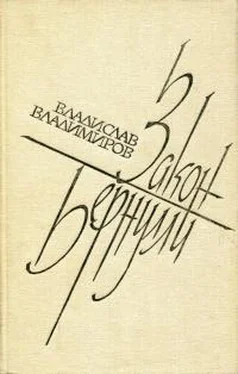

![Владислава Мека - Законная Преступность [СИ]](/books/31850/vladislava-meka-zakonnaya-prestupnost-si-thumb.webp)