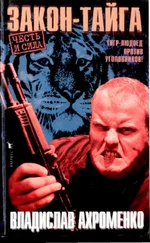I
Нет-нет, вовсе это не палач в черной маске являлся ему в жутком дурацком сне, с этими скользкими шпицрутенами и хоккейными клюшками, а сам майор Харцев, Это же его узкое худое лицо скептика и нудяги было обтянуто гладкой материей, и глаза его сквозь прорези посверкивали мстительно, насмешливо и радостно.
Странно, но за прожитые после авиации годы Коновалов видел его в снах чаще, чем Гредова, и всегда Харцев являлся не один, а в компании с Женькой Марьиным, которого Коновалов с детства любил безмерно, и Женька ему платил такой же любовью.
Но, любя дружески Женьку, Коновалов всегда знал, что Марьин во всем сильнее его и лучше, но, зная про это, он никогда не подобострастничал другу, а только учился потихоньку у него в с е м у, избегая внешне копировать походку, голос, манеры давнего кумира.
Майор Харцев не был первым, кто растолковывал им закон Бернулли. Но Женька, именно Женька, а не он, Коновалов, и не отважный осетин Феликс Заметов, и не милый Володя Лавский, и никто другой из ребят не встали тогда у доски и не дали отпор Харцеву.
А Женька встал и дал. И Коновалов хотел было встать рядом, но разве мог он тогда з н а т ь, сколько знал Женька, никогда не хваставший знаниями и силой, а «солнышко» крутить на турнике лучше его никто не умел и гирями легко играть тоже. За глаза преподавателя аэродинамики курсанты звали «майором Почему». Если же он болел, то урок вел преподаватель из города, штатский, Глядов Павел Федорович, неторопливый, обстоятельный и даже слегка застенчивый, он весь светился тихим торжеством и без конца поправлял толстые очки, добро прищуриваясь, словно говорил о давних своих товарищах и коллегах — о Можайском и братьях Райт, о Лилиентале, Вуазене, Жуковском, Чаплыгине, Туполеве, Поликарпове…
Он был неистощим на всякого рода истории, например о том, как до революции покровительствующий а в и а т и к е миллионер Рябушинский построил в Подмосковье частный аэродинамический институт и задумал помыкать Жуковским, из чего, разумеется, ничего не вышло; или о том, как в первый полет на крупнейшем в мире тяжелом самолете «Илья Муромец» отправились шестнадцать пассажиров и собака; или о том, как великий старец Жуковский отметил с молодым Туполевым создание знаменитого ЦАГИ — Центрального аэрогидродинамического института — в холодном и голодном декабре 1918 года стаканом простокваши в чудом уцелевшем московском кафе где-то на Мясницкой, а сам Туполев, когда стал конструктором, прежде чем приступать к разработке нового типа самолета, уединялся с художником Кондорским и «надиктовывал» ему образ нового самолета, — художник еле успевал зарисовывать со слов конструктора, потом из дерева творился макет в натуральную величину, и таким образом симпатии многих новая, еще не рожденная машина приобретала гораздо скорее, чем при самом внимательнейшем изучении многих квадратных километров тщательно исполненных чертежей; или о том, как в первую мировую войну кайзеровское командование послало на Париж, Лондон и Петроград «цеппелины» с бомбовым грузом и вместе с ними потеряло секрет дюралюминия, который для русских металлургов тогда уже не был новостью…
А однажды Глядов, искренне восхитившись их молодостью, помолчал и потом, смотря притихшим курсантам в глаза, посоветовал, чуть взволновавшись:
«Вот что, дорогие мои ребята. Сколько бы ни прошло лет, вы всегда отвечайте, что вам двадцать! Вам жить и летать на больших скоростях!»
Почувствовав, что его не вполне поняли, он улыбнулся и шутливо, но с полной убежденностью пояснил:
«Теория относительности: чем больше скорость, тем медленное время. И не обязательно ворочать скоростями выше световых. Вале быстро летать, а потому и медленно стареть».
И он удовлетворенно встретил заливистый звонок, поправив толстые очки и добро прищурившись.
От постного Харцева никаких интересных историй и пожеланий курсанты никогда не слыхивали. Его дружно недолюбливали все, кроме вредного старшины Дармограя, рьяного ревнителя воинских уставов, но после субботних и воскресных отлучек дышавшего луком, табаком, селедкой и ромом «баккарди», бутылками которого были щедро уставлены полки всех больших и малых магазинов. Ром этот обладал коварным таинством несоответствия употребленного объема и последующего эффекта, и потому Дармограй угощался им из пивной кружки.
«Так почему летает самолет?» — спросил Харцев Женьку на зачетном занятии, поставив его у доски по стойке «смирно» и придирчиво оглядывая сверху донизу.
Читать дальше
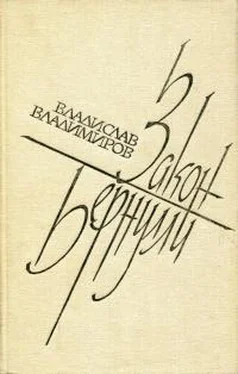

![Владислава Мека - Законная Преступность [СИ]](/books/31850/vladislava-meka-zakonnaya-prestupnost-si-thumb.webp)