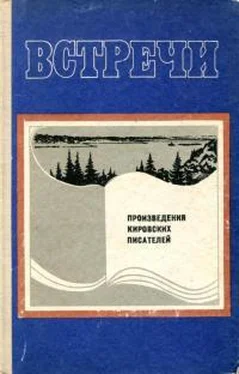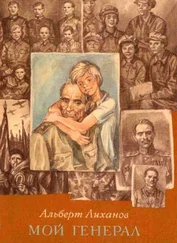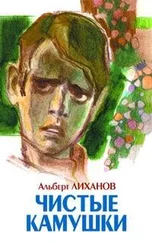Зазвенел звонок в коридоре. Дмитрий Николаевич открыл, не поднимая глаз от пола. По ботинкам догадался: Женя Иванов.
— Проходи, проходи, — пригласил неестественно бодрым голосом.
Взглянув на главного инженера исподлобья, сразу определил: знает. И пусть, шила в мешке не утаишь, завтра по всей фабрике разнесется… Знает, потому и пришел…
Говорили о пустяках, не касаясь самого важного и больного. Но незаметно снова пришли к фабрике.
— Звонил сегодня в институт насчет аппаратов для окончательной настройки — обещали прислать еще три штуки, — сказал Женя, забывшись.
Дмитрий Николаевич вздрогнул и поморщился, но было поздно: Женя вошел в привычную колею.
— Это большое дело, Дмитрий Николаевич. Установим их, через два месяца шесть новых настройщиков появится.
Женя, размахивая руками, принялся рассказывать, сколько хлопот у него с новыми аппаратами, где намерен их разместить, кого поставить на освоение…
А когда он ушел, в комнате стало непривычно тихо. Оставшись один, Шубин уже не мог уйти от думы о фабрике. Постепенно его решение уволиться ослабело и четкий строй мыслей распался.
Он взял альбом с семейными фотографиями, потому что ни спать, ни читать не хотелось, и, перелистывая страницы, лег на кровать в надежде, что покой и сон придут незаметно. Но и со страниц альбома на него глядела фабрика. Он был заснят у старого деревообрабатывающего цеха, потом у нового кирпичного корпуса, потом на старом дворе, на новом…
«Нет, надо уволиться, чтобы глаза ничего этого не видели и не жалели». Шубин захлопнул альбом, положил на ночной столик и пошел принимать успокаивающие капли, хотя и не очень доверял им…
Утро чирикало воробьиными голосами за окном в кустарнике. Шубин проснулся, почувствовав на щеке солнечный луч. Вставать не хотелось. Часы в большой комнате пробили восемь, а это означало: дальше лежать нельзя, надо вставать. Шубин рывком откинул одеяло и поднялся. Помахал руками и пошел умываться.
«Сегодня можно было и не вставать в такую рань, все равно напишу заявление — и точка, нечего для Кочергина ковровую дорожку расстилать, пусть сам побегает…» — думал он, разбрызгивая жгучую холодную воду и отфыркиваясь, но сила привычки, не считаясь с настроением и мыслями, заставила его одеться и позавтракать в обычное время. И когда на улице призывно зазвучал короткий гудок, Шубин уже спускался по лестнице.
Шофер Григорий Свистаков, муж Симы, сидел за рулем и читал «Советский спорт».
— Здравствуйте, — сказал он, сворачивая газету.
— Здорово, футболист, кто кому забивает?
— «Спартак» проиграл, — уныло отозвался Григорий и повернул ключ зажигания.
«Москвич» сорвался с места, попетлял по городским улицам и вышел на широкую загородную дорогу. Пахнуло свежим утренним воздухом. Шубин задвинул боковое стекло внутрь дверцы, и ветер ворвался в машину, раздул волосы, загнул воротник на рубахе.
«Хорошо-то как!.. Будто в воду ныряешь», — подумал Дмитрий Николаевич и покосился на Григория, который, следуя своей привычке, работал сосредоточенно, не отвлекаясь. Так ехали полдороги. Потом Григорий кашлянул и спросил:
— Дмитрий Николаевич, баба дома покоя не дает, ругается, говорит: у директора жена болеет, а ты каждый день его возишь и самочувствием жены не поинтересуешься, чего он после этого о тебе подумает? И вправду, нехорошо. Как она, поправляется?
— Поправляется, — в тон ему отозвался Шубин и отвернулся. В этом смешном откровении был весь Григорий Свистаков, серьезный и задумчивый молчун, возивший Дмитрия Николаевича все эти годы.
«Поинтересовался!» — мелькнуло у Шубина. — Нет, надо уходить…»
Григорий снова сосредоточенно углубился в свои думы, довольный, что исполнил необходимое.
«Москвич» вырвался на пригорок. Вдалеке, среди синего неба, показалась фабричная труба, потом крыша и, наконец, вся фабрика выросла на горизонте.
На обочине дороги зеленела трава, солнце, играло в отражателе на правом крыле машины. «Уходить, уходить надо», — думал Шубин. Но фабрика стремительно приближалась, занимая привычное место в его сердце…
Нам без песен нельзя.
Наши песни за нас говорят,
За живых и за тех,
кто могилами братскими спит.
Соловьи, соловьи,
не тревожьте усталых солдат!
Ой ты, темная ночь!
Только пули свистят по степи…
Где ты, синий платочек,
что был на плечах дорогих,
Золотой огонек,
что глядел сквозь девичье окно?..
Много песен поем мы,
все меньше поем фронтовых —
По-иному живем,
и война отгремела давно.
Но когда сквозь обыденность быта
и будничность дел
Песня фронта звучит
и тихонько за сердце берет, —
Разгорается память о тех,
кто их слушал и пел,
Кто других уберег,
а себя самого не сберег.
Ах, военная песня,
есть горе и радость в тебе!
Это память души,
умещенная в несколько строк,
Это наша судьба
в государственной общей судьбе,
Это пыльное марево
горьких солдатских дорог.
Это мертвые избы
и дети с недетской тоской,
Это нету махорки,
и друг твой погиб час назад,
Это память о тех,
кто сейчас далеко-далеко,
Это радость письма,
что из дома получит солдат.
Над простреленным знаменем
с тысячу дней протекло,
Под простреленным знаменем
тысячи тысяч легли.
Умирал запевала,
и все-таки смерти назло
Эти песни к Победе
живые, как знамя, несли.
Это было давно,
это было не с каждым из нас,
Только вечная память
да будет нам в сердце стучать!
Надо слушать их так,
будто это случилось сейчас,
Надо слушать их стоя
и скорбным молчаньем встречать.
И покуда живем,
этим песням не будет конца.
Эти песни звучат,
словно клятва и памяти крик…
Пригорюнится старая мать,
сын припомнит отца,
И расправит усталые плечи
седой фронтовик.
Читать дальше