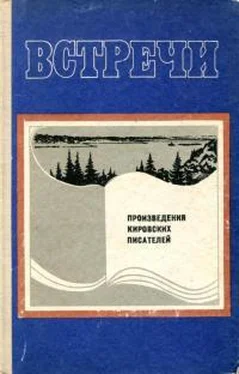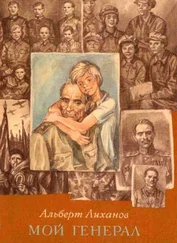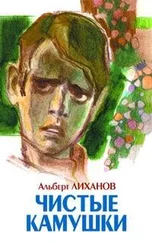— Сидит, — теперь уже нарочито вслух произнес он и услышал голос старческий и глухой, и слабый шорох одежды, которую надевал, и приглушенные тапками свои шаги на полу.
И вспомнил сразу, что лет пятнадцать назад, когда они еще были новоселами в этом просторном доме, выстроенном совхозом специально для них, он вставал так рано лишь на рыбалку. И напрягался весь, чтобы не сбить сон Маше и ненароком не разбудить Славку, который, вместо того, чтобы готовиться к экзаменам, непременно увяжется за ним. Ходил на цыпочках, но половицы предательски скрипели, одевался не дыша, но обязательно ронял, зацепив, либо стул, либо сапоги.
О, с каким бы удовольствием отдал он все те дни и годы, которые осталось ему доживать, только за те мгновения, когда от его возни все же просыпался, начинал крутиться на диване Славка и садился, едва разлепив глаза; за прохладные шлепки Машиных босых ног, когда она все равно вставала и провожала их до калитки.
А сейчас он словно витает среди этих стульев. И тишину нарушает разве что скрипучий ото сна, ставший самоуправным, голос. И некого разбудить…
Он вышел на крыльцо. И сразу у калитки вырос, потягиваясь и сладко поскуливая, Шарик. Он глянул на хозяина, потом на улицу и тявкнул на всякий случай. Старик сел на ступеньку крыльца, и Шарик, подкатившись, привычно свернулся прямо на ступнях его ног досматривать свой собачий сон. Старик улыбнулся: по дорожке из сада, задрав хвост трубой, шел черный большой котище. Немного не дойдя до собаки, он легко взметнул свое отполированное угольное тело и оказался на коленях старика. Помурлыкал, потираясь головой о его грудь, и, враз расслабившись, уютно улегся.
В такой привычной для них позе они замерли надолго, и казалось, не только четвероногие выкормыши человека, но и он сам, откинувшийся головой на дверь, объяты утренним дремотным сном. Легкий ветерок шевелил седые, просвеченные солнцем волосы, и они качались легким ореолом над его уже потемневшим от весеннего солнца лицом. Полуприкрытые веками все еще голубые, не выцветшие от времени глаза привычно скользили по ухоженному винограднику, который начинался тут же, в двух метрах от двери, по огромному дереву грецкого ореха, раскинувшему свои многолетние ветви от виноградника до калитки. И вот она там у забора, за орехом, свежая поленница прекрасных березовых дров. Вчера, укладывая последние полешки, старик невольно отступил от нее, чтобы полюбоваться чистой и теплой красотой березовой древесины, — такой редкой в этих южных степных краях, и кладкой своей — основательной и любовной, и порадовался, что дров хватит не на одну зиму, если их еще присыпать углем, и что сложил он их не как раньше на задворках, а неподалеку от крыльца и теперь не надо будет зимой под дождем и снегом месить грязь, чтобы принести утром охапочку.
Вчера он принес и последние четыре пули и положил их в розовую стеклянную, под хрусталь, конфетницу, в которой раньше Маша держала его и свои ордена и медали. Трогая каждую, тупорылую и холодную, он пересчитал их. Пуль было двадцать. Двадцать на пять кубометров березы. Теперь, когда они все до единой были извлечены, старик впервые за последнюю неделю заснул спокойно, словно обезоружив кого-то.
Неделю назад Никола Черемных — ученик старика (а в совхозе всех, кончивших школу лет десять назад, старик, бывший ее директор, считал своими учениками) подкатил к забору грузовик и перекидал ему во двор березовые стволы. Совхоз всегда помогал учителям с топливом, но старика поразили эти еще не очищенные от бересты в пол-обхвата бревна, за которые он, строивший здесь школу и интернат, знал, сколько приходилось исписывать бумаг и тратить нервов. Богато зажили… Он хотел было протестовать против такого расточительства, но Никола успокоил его, пояснив, что березы он привез с лесопилки. От них там отказались, поскольку березы эти с пулями, и уже не одну пилу испортили. Да-да, с пулями березы, белорусские. Так что пусть он «Дружбой» — ни-ни. Вот он, Никола, освободится завтра вечером, и они вдвоем ручной пилой попилят осторожненько…
Старик так и не знает: спал он в ту первую ночь или нет, сон то был или память включила ему один из тех страшных, почти роковых для него эпизодов войны.
— Н-да, — сказал, вновь заволновавшись, старик, и сразу Котище и Шарик вскинули морды и посмотрели вопросительно в глаза хозяина. И старик, чувствуя себя обязанным ответить и словно лишний раз подтверждая для себя самого свою утреннюю мысль, вроде бы никак и не связанную с этими березовыми пулями, проговорил:
Читать дальше