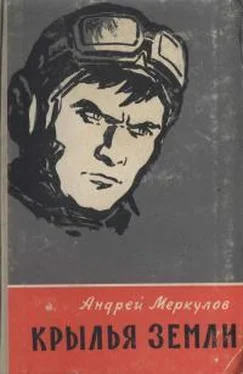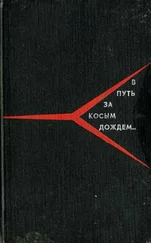— Да нет, не то, я не про то совсем, — сказал Поддубный и быстро заговорил опять: — Но вот так говорят они зачем? Как они могут такое говорить? Даже немцы не говорили, чтобы все уничтожить! Что за люди они тогда, если могут даже такое говорить?
И тогда мы невольно посмотрели вокруг — на спокойное, тихое озеро в тумане, на последнюю, чуть заметную розоватую дымку заката, на ясные звезды, что зажглись уже над нами.
Лазыкин теперь понял его вопрос и так же, как он, глядел на Степана Фомича, ожидая ответа.
Мы все молчали и не могли ответить. Этот вопрос не умещался в нашем сознании так же, как и в сознании этого угловатого парня с большими тяжелыми руками. Какие люди даже в бреду могли бы сказать такое — уничтожить всю жизнь, чтобы не было ни людей, ни травы, ни леса, чтобы только одни холодные звезды стояли над сожженной в пепел землей?
— Нет, не люди они, — тихо сказал Степан Фомич, глядя в огонь костра. Видно, много вспомнилось ему вдруг сразу. — Нет, не люди они, Поддубный. И не звери. Я не знаю даже, как тебе сказать, что они такое…
Он брезгливо поморщился.
Я посмотрел в это время на Степана Фомича: отсветы костра проходили по его лицу, и теперь оно не казалось добродушным. Я вспомнил, что при знакомстве не удержался и спросил: а не трудно ему летать? Я первый раз видел толстого летчика.
— Ничего, — сказал он мне. Он, очевидно, привык к таким вопросам. — Ручка только в пузо упирается…
Костер горел, и сучья трещали в нем так, как будто хотели принять участие в разговоре. Мы все молчали, каждый думал о своем.
Мне вспомнилось, как при первом воздушном налете, который я видел во время войны, горели и взрывались большие склады боеприпасов; пламя выбрасывало вверх толчками на огромную высоту, и это было видно на много километров в селах, освещенных пожаром…
Степан Фомич тоже смотрел в огонь, и лицо его стало таким, что он даже не выглядел толстым.
Мы долго еще сидели молча, и только сучья потрескивали в костре и белый дым все тянулся к реке и повисал в прибрежных кустах. Из-за реки, где-то близко, в темном лесу вдруг загавкали собаки.
— Это лесничего собаки. Значит, опять волки тут ходят, — сказал Степан Фомич, всматриваясь в лес за рекой.
— А много волков? — спросил Илья Ильич.
— В степи нет почти, перебили. Мы их там с самолета бьем. А в лесу еще ходят.
Вдруг раздался сначала тихо, потом громче, прерывистый и тоскливый волчий вой. Мы уже устроились спать в машине. Поддубному оставили место на переднем сиденье, но он все еще ходил кругом машины и все ворчал что-то свое.
— Ишь, воет, — говорил он сам себе. — Дал бы я вам, не то бы завыли.
Он говорил так, что непонятно было, к кому относится, — к волкам или к кому другому.
— Вот сволочь, опять спускаешь, — говорил он, прибавив еще кое-что, и сердито пнул ногой переднюю шину.
— Хватит тебе ворчать, спать иди, — сказал ему Степан Фомич.
Поддубный влез на свое сиденье, скрючился там и молчал. Сквозь окошко в дверце видна была высокая луна среди белых, как бы пенистых облаков. Я заснул и больше не слышал ни воя волков, ни ворчанья Поддубного.
Утром я проснулся, когда уже тянули сеть из воды. Илья Ильич, умываясь, гоготал и плескался в камышах.
— Не верили вчера, что рыбу поймаем, а вот смотрите, — встретил меня Степан Фомич. — Рыбы вынули больше пуда, — на траве лежали великолепные золотистые лини и караси таких размеров, что крупнее не водилось и в монастырских прудах…
Обратно мы ехали быстрее. Солнце уже встало и утренним светом осветило поля. Наши спутники как-то вдруг сразу переменились. Не узнать было рыболовов вчерашних. Видно, мысли их были уже далеки от тихой рыбной заводи.
Вдали, над лесом, серебряной искрой мелькнул самолет.
— Кто это пошел? — сказал Лазыкин.
— Не наши. Нашим рано, — сказал Степан Фомич.
Мы ехали все быстрее, и борозды вспаханного чернозема убегали назад, сдваиваясь в глазах, как рельсы железнодорожного полотна. Машину мотало из стороны в сторону. Казалось, что даже брови ерзают на лице от тряски.
В поселке мы вышли из машины, а Степан Фомич поехал дальше, на аэродром, и обещал позвонить, но мы так и не дождались этого: нам пора было собираться.
Когда мы выехали на большое шоссе, вновь раскинулись перед нами необозримые просторы — поля хлеба, по которым, как журавли, шагали вдаль голенастые вышки высоковольтных передач. Дорога неудержимо тянула вдаль; все было так ярко и солнечно, и так живописно рисовались по сторонам селенья, поля, и перелески, и заводские трубы где-то на горизонте… В стороне виднелся военный аэродром. Было видно, как машины возвращались с ученья. Со стонущим свистом возникали они в синеве одна за другой так быстро, что глаз не успевал заметить, откуда они появились. Клубы пыли стояли над аэродромом там, где, приземляясь, они взрывали сухую землю. И все это сливалось в одну картину: и поля, и трубы на горизонте, и перелески, и дымок трактора, черным жуком ползущего вдали по ниве, и грозные машины в небе, охраняющие покой этой большой земли, и летнее щедрое солнце, ярко осветившее всю картину, — все это сливалось вместе.
Читать дальше