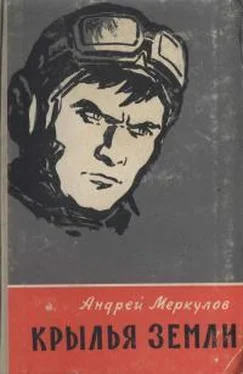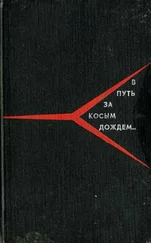— Селедка что! — ухмыльнулся Поддубный. — Мы в той Чугуше живого человека на крючок поймали.
— Ты расскажи им Ваня, — попросил Степан Фомич, — а то не верят. Думают, шучу. Врать не врать, а только что за костер без рассказа? Сидел бы ты, Илья, да слушал.
— В запрошлом году мы по делу в соседнем районе были, — сказал Поддубный, весело и просто улыбаясь нам. — Заночевали в селе, у знакомых людей удочки взяли и — на речку, хоть просто так посидеть. Речка там хреновая, если прямо сказать. Сидим мы и вроде, как вы сейчас, развлекаемся — комарей хлопаем. Вдруг смотрим, идет еще один рыбак. Должно быть, приезжий, шляпа на нем соломенная, очки такие сердитые. Но видать, что рыбак он самый настоящий…
— Так вы друг друга сразу и распознали. Как в поговорке: рыбак рыбака… — хмыкнул Илья Ильич.
— А как же, — невозмутимо отвечал Поддубный. — Рыбак другого даже в бане голого всегда узнает.
— Это почему же? С удочкой, что ли, в баню ходят?
— Зачем с удочкой. У рыбака на левой руке возле плеча синяк есть. Потому что он, когда домой приходит, говорит: «Во поймал!» — и всегда на одном и том же месте показывает… Только вы не перебивайте, а то собьюсь. Такое дело всегда по порядку рассказывать надо… Разложил этот рыбак сразу четыре удочки, одна даже в чехле у него была. Сидим. Мы на него, а он на нас косыми глазами смотрим: всегда интересно, что там сосед поймал. А как скучно нам стало, надумали мы пошутить. Известно, есть такая шутка, только хорошо, если кто ее знает… Взяли из кошелки селедку, которая для закуски была, тихонько нацепили на крючок и торк ее в воду. А как сосед к нам повернулся, мы ее вверх из воды и небрежно так в корзиночку — шлеп… Человек тот очень удивился на нашу большую рыбу, даже ерзнул от зависти. Все удочки свои пошебаршил, так их подвинет и так, на поплавки свои смотрит, ровно там деньги по воде плавают, — и все нет ему ничего! А у нас опять большая рыба в корзиночку пошла. Тут мы встали да и перешли по берегу. Ему на наше место бежать сквозь крапиву было, да обходить ему было некогда, не стал. Все свои удочки переволок. Таким манером мы его метров триста по берегу провезли, да все бежал он за нами, как молодой. А потом, конечно, сняли мы селедку с крючка, порезали тут же и с огурчиком начали закусывать. Тут уж он нам такую речь произнес, — Поддубный покрутил рукой в воздухе, — уж на что мы, шофера, для нужного случая все слова знаем, а тут нет, даже мне дух сперло! Ну хоть бы он раз чорта какого сказал, хоть самого махонького — совсем нет, все слова только самые некрещеные; я и не слышал ни разу, чтоб так складно человек говорил, да чтоб подряд все, артист был какой-нибудь, не иначе!
Поддубный все улыбался глазами, и все доброе веселое лицо его освечивалось смехом. Костер, разгораясь, трещал все сильнее. Стало уютно, как бывает уютно только в открытом поле у костра. Хотелось сидеть вот так и думать и говорить неторопливо — и то только о самом простом и понятном, о таком же большом и ясном, как вся эта природа и тишина вокруг. Туман уже затягивал озерко, и в воде дрожал последний багровый блик заката. Белый дым от костра тянуло к реке. Комаров не стало. Илья Ильич уже подремывал.
Степан Фомич сказал, глядя на потухающий закат:
— Около Мадрида, в одном из старых замков я видел картину. Вот где хорошо был сделан закат. Только очень мрачно.
— Вы были в Испании?
— Я летал там в 1936 году. Вот дырка осталась на память. — Он завернул рукав и показал глубокий след ранения. — Но на той картине закат был зловещий, — продолжал он, — как зарево. И тогда это воспринималось иначе. Начиналась большая война.
— Степан Фомич, а будет опять война? — спросил Поддубный.
— А ты что, не знаешь, что делать, если будет война? — строго заметил ему Лазыкин.
— Степан Фомич, вот я хочу еще спросить… Только вы не подумайте, что я сам ничего не понимаю, но я давно хочу у вас узнать… — волнуясь, говорил Поддубный. Видно было, что вопрос давно его мучил и что он все искал случая спросить что-то очень важное для него.
— Ну, чего же ты, спросить боишься, что ли? — сказал Степан Фомич.
— Правда ли… У нас в гараже разговор был об этом… В Америке объявили будто, — говорил Поддубный, — что могут они такую бомбу взорвать, что воздух весь переменится как бы. И не будет ничего, погибнет все значит: и люди, и рыба, и трава тоже… Не будет жизни никому, ничего уже не будет совсем… — И он как-то удивленно обвел рукой вокруг.
— Враки все. Ты не верь им, пугают. Болтают только, — сердито буркнул Лазыкин. — Да и кто им даст? — Он упрямо сдвинул светлые, выгоревшие брови.
Читать дальше