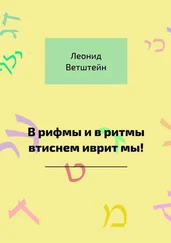Понемногу отчуждение первых дней прошло, он чувствовал себя свободнее, и они тоже, особенно Ира, веселая, размашистая, общительная, но не Саша, точнее, и он шагнул через начальную ступень, но позже и как-то не так. Он все отмалчивался, может быть, потому, что был старше, был мужчиной, и пусть в молчании его не было упрека, но Николай Павлович, тянувшийся к нему больше, чем к дочери, опять-таки потому, что тот был мужчиной и, значит, мог стать союзником, наталкиваясь на пассивное, немое сопротивление, отступал.
Сближение все же происходило, но медленно, почти неощутимо, короткими шажками, стараниями Иры и Веры. Получалось так, что у него были две союзницы, а не союзник, которого он хотел.
Но истинную радость он познал в тот день, тот запомнившийся навсегда день, когда, освободившись к вечеру в больнице, он пошел на речку и издали, уже со склона увидел Иру и Сашу на берегу, в окружении дочерна загорелой мелюзги. Саша что-то рисовал на песке, и весь этот мальчишеский рой склонился к нему, а Ира натягивала на волосы резиновую шапочку, и волосы у нее были не короткие, стриженные, — огромный ворох, огромное золотое облако. Когда он появился возле них, кто-то из мальчишек пронзительно завопил:
— Селезень! — и все они: — Селезень, Селезень, Селезень! — все с криком, с хохотом, с плеском — в воду.
Конечно, он сразу понял в чем дело: те любимые им дни школьных прививок, когда, тая усмешку, он проходил сквозь этот испуганный, трепещущий народец ростом с вершок, этаким мизантропом, каннибалом, страшилищем вторгался в их владения, разя все-повергающей иглой — и вот она, месть пигмеев, кличка.
— Селезень-Селезень, — сказала, смеясь, Ира, — застегни-ка мою шапочку.
Она склонила голову, он подошел, взялся за хитроумную застежку, но смотрел он не на шапочку, не на сложное переплетение резиновых жгутов, нет, он видел шею, длинную и хрупкую, с выступающими позвонками, розоватую сквозь легкий загар, и не сходство с теми давними линиями, а другое, теперь уже до конца обретенное, родное, кровь и плоть его, все до последней веснушки возвращенное, переложенное в радостное волнение, в крепкое биение сердца — вот что захватило его целиком, без остатка.
— Ну что? — спросила она. — Не получается?
— Готово, — сказал он. — Беги.
Пять лет минуло с тех пор. Нам было тогда по двенадцати… Он долго возился с ее шапочкой, все не мог поправить, а Ира стояла, чуть склонив голову и, наверное, уже устала ждать, и, когда, наконец, он застегнул, она с разбегу бросилась в воду, нырнула, поплыла. Он тоже вошел в реку, не раздеваясь, только снял туфли и засучил брюки, вошел и стоял по колено в воде, и улыбался. Мы думали, он смеется над нами, и стали вопить, и брызгаться, что было сил, и мы вовсе не боялись его, и никогда его не боялись, просто, нам не нравились уколы, а Селезнем его прозвал Юра Кобцев — из-за носа и утиной походки… и было спокойно на реке, уже вечерело, опускалось солнце, а он стоял по колено в теплой воде, смотрел на Иру, на нас и улыбался.
Они двигались вверх по склону, по узкой тропе — веселое шествие гномов, скоморохи, взорвавшие чопорную тишину рощи, барабанщики и фанфаристы, клоуны, эксцентрики, канатоходцы, эквилибристы, жонглеры, иллюзионисты, мастера икарийских игр. Впереди — королева шутов в голубой тоге, с жезлом в руке, в римских сандалиях — скачет, танцует, летит; за ней — убеленный сединами, с великолепным брюшком, с фальшивым носом, умный, важный, веселый, жизнерадостный мим; последний в процессии трагик, молодой, печальный, унылый, удрученный неведомым проклятьем. Вот мим и королева схватили трагика, схватили под руки и с воплями, с хохотом, со свистом потащили его за собой в танец, в каскад прыжков, кульбитов, сальто, схватили, рвут, срывают с него маску — мучительный, безмолвный оскал, зияющие провалы глазниц…
— Довольно, довольно! — закричала Вера. — Пора ужинать, хватит дурачиться.
Потом, когда легли и не спалось, и было тихо, только слаженный хор лягушек в дальнем болоте, и осторожный шорох в сене, и шелест листьев над крышей, Ира сказала:
— Что с тобой, Саша? Ты что как зачумленный?
Ире было легче, чем мне, она не помнила мать…
А он и впрямь был похож на селезня, на старого дикого селезня, который не мог уже летать и плавал в замерзающей реке, пока его не подобрали люди; и селезень стал жить среди людей, и он не мечтал о полете, вернее, мечтал, пока надеялся, но не потом, когда мечты уступили воспоминаниям жгучим и ощутимым, как реальность. Теперь он жил тем, что его окружало, и тем сокровенным, о чем знал только он и никто другой, остальные могли лишь догадываться, не больше, и круг, таким образом, замкнулся — это второе, сокровенное, стало движителем в его повседневном, обыденном. И еще: ему очень повезло с Верой, хоть она не была ему ни сестрой, ни другом, и вообще никем, если мерить привычными канонами.
Читать дальше