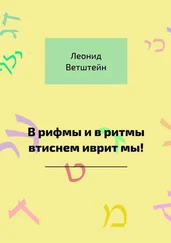— Прости, — сказал он. — Я пойду, пожалуй. Голова кругом.
— Идите, — сказала Вера. — Отдыхайте.
Он спустился с крыльца и сделал шагов пять-шесть, а жил он в здании больницы, в комнатах с отдельным входом со двора, и он уже хотел свернуть за угол, когда она позвала:
— Николай Павлович…
— Да? — остановился он.
— Николай Павлович, выписали бы детей, — сказала она. — На июль или лучше на август.
Он не ответил. Он постоял немного и пошел, свернул и дальше — вдоль больничной стены через темный уже двор, мимо сараев и пристроек, а за ними — дубовая роща и пологий вначале, потом круче спуск к реке, мимо днищем кверху перевернутой лодки, недавно конопаченой и смоленой, мимо черных, незасеянных еще грядок. Он не ответил, и она не ждала этого: не вопросом и не утверждением были ее слова, и даже не советом, который можно принять или не принять в зависимости от желания. Нет, это она ответила ему, или, точнее, указала путь, направление, чутьем и опытом подсказанные ей, свела его мысли в неперегруженную и решимую формулу.
Он вошел, привычно нащупал выключатель, постоял, привыкая к яркому свету, к ослепительным стенам пустой почти комнаты: стоял стол посреди и три стула, громоздкий зеркальный шкаф — память о давнем предшественнике, длинный ящик со всякой всячиной. Вторая комната более обжитая и уютная — он снял черные с резинками туфли и надел шлепанцы — служила ему спальней и кабинетом. Здесь розово светила низкая лампа с письменного стола, и освещен был стол и немного шкаф с книгами, короткий диванчик и застеленная белым кровать, а дальше, в углах, было почти темно, только чуть мерцало овальное зеркало со стены, отражая на пол расплывчатое пятно. Это старое зеркало принесла Вера. Она сама заколотила гвоздь и повесила его, как вешают портреты, наклонно вниз, потом поправила, забила еще два гвоздя по бокам, чтобы оно не сдвигалось, и сказала:
— Все ж веселее будет.
— Спасибо, — улыбнулся он. — Хорошее зеркало.
— Вот и ладно, если нравится. Пусть висит.
Он и в молодости не любил зеркал, не то, что теперь, когда располнел и обрюзг, и между обвисшими щеками — широкий с ложбинкой нос, под глазами — серые мешки и веки серые, пухлые, взгляд из-под них сонный и бесцветный, а голова, хоть не лысая, но кожа проблескивает сквозь редкую седую поросль. И на второй же день он повернул зеркало к стене. (Другое, со шкафа, замутненное, все в ржавых пятнах, не мешало ему.) Вера, убирая в комнате, повернула зеркало обратно. Он снова повернул, и она.

И снова он; и она. И оба знали почему, и, наконец, поле боя осталось за Верой. Потом уже, месяц или два спустя, как-то вечером, он это помнил, Вера взяла со стола ее фотографию, вставленную в тонкую рамку, и стала разглядывать, поднеся к свету.
— Красивая, — сказала она. — Краше я не видала, не пришлось. Может, и нет больше таких.
— Как зовут-то ее? — спросила она.
— Лена, Елена Васильевна, — ответил Николай Павлович и, разволновавшись вдруг, встал и вышел из комнаты, не желая больше слышать и говорить об этом. Но именно в тот вечер, вернее за полночь, он решился писать ей, и это было не то, что раньше, когда он рассылал во всякие ведомства официальные запросы о ней, это был еще один способ общения, возможность выговориться, а о встрече он и не помышлял, боясь разбередить себя, боясь жалкости своей и уязвимости рядом с ней, восставшей из безвестности и в безвестность готовой кануть: он не поверил бы, не ощутил реальности ее присутствия, и каждую минуту ждал бы нового, окончательного ее исчезновения, и он не смог бы пережить это снова, с самого начала, во всей остроте — обреченность свою и беззащитность.
Письмо далось нелегко, каждое слово, абзац, страница, целый ворох исчерканных, изорванных листов. Он долго думал, как обратиться к ней — написать «любимая» или «дорогая» значило новую грань самоизничтожения, но было правдой, а остальное звучало вымученно, надуманно, извращенно. В конце концов появилось, выплеснулось в отчаянии: «Лена, тебя, конечно, удивит после многих лет»… И он, чу-чу, как злой дух, как наваждение, отогнал, разметал в клочья эту фразу, это «удивит», и снова принял, и теперь уже с упоением истязающего себя фанатика добавил: «Лена, тебя, конечно, удивит после многих лет молчания, тебе покажется нелепым чудачеством это письмо». И уж совсем нетрудно было списать все начисто, перечитать, проскальзывая первую строчку, надписать на конверте адрес троюродной ее тетки, у которой когда-то давно они гостили, и не отправить письмо, а носить в кармане; потом оно лежало на столе день, второй, неделю, пока его не заметила Вера.
Читать дальше