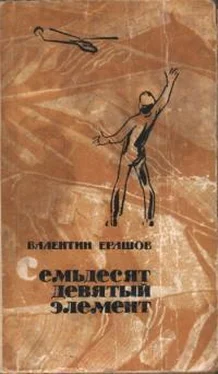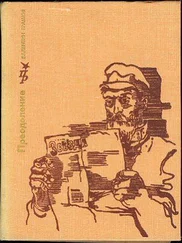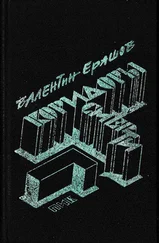Она дымится нежным цветением, сверкает океанами, реками, ручьями, розовеет тугими щеками плодов, добродушно ворчит рокотом станков, поет гудками кораблей, насвистывает ветрами, она пахнет морским прибоем и хлебною кислинкою, материнским молоком и свежестью грозовых разрядов, сладкой горечью полыни и терпким ароматом дубового листа. Она зачинает растения и людей, она рожает и не старится в свои три миллиарда лет, поскольку для нее это, в общем, возраст юности.
Здесь, правда, земля выглядит иначе — земля под названием нагорье Мушук.
Когда-то — не слишком, впрочем, давно, всего миллионов триста лет назад, — тут ходило, перекатывалось, рокотало нетоптанное кораблями море. Безымянное древнее море, туго набитое грубыми, в панцирях, рыбами с мощными хребтами, с жесткими частоколами зубов и колючими плавниками, рыбами огромными и неповоротливыми. Рыбам незачем было тогда учиться стремительности — единственным обитателям планеты, безраздельным и жалким в своей беспомощности властелинам Земли, безымянным, как море, тоже огромное и тоже бессильное, потому что ведь — так мне думается — могущество и слабость относительные понятия, сила становится силой, когда она противопоставлена чему-либо, приложена к чему-то. И слабость тоже познается лишь в сравнении.
Триста миллионов лет спустя рыбы эти получили от людей имена, звучащие возвышенно и торжественно: диплокантус, остеолепис, эвстеноптерон... Рыб окрестили торжественными, звонкими прозваньями — когда только смутные отпечатки да останки грубых костей, влитые в камень, сохранились от них. Рыбы не то что умерли, они вымерли, даже не успев при жизни получить имена, поскольку имена никто не мог дать им в ту пору, они вымерли неназванными, грубые древние рыбы, и это почему-то грустно — я не знаю, почему...
А потом другие рыбы — более изворотливые, более совершенные — пробовали выбраться на берег. Туго набитое панцирями, зубами, плавниками дикое море помогало им, глухо рокоча, оно пятилось, отступало, высвобождало место для тех, кто обретет вскоре четыре конечности, а после встанет на две, кто станет миллионы лет спустя властвовать над Землей и придумает себе в гордыне своей имя заносчивое и оправданное — ЧЕЛОВЕК. Чело века. Лоб века. Ум эпохи. Мысль времени...
Когда рождается человек — тело матери содрогается, корчится, вопит, рыдает. Легко рожают лишь черви да рыбы, но зато и остаются они червями да рыбами, безмолвными и бездушными. Человек рождается болью, стоном, судорогой, корчами.
Когда возникало Человечество — содрогалась, корчилась и вопила Земля. Она заливала себя потоками голубой крови, ее жгла собственная кровь, Земля содрогалась, покрывалась рубцами, шрамами, ее секли морщины. Земля калечила себя, чтобы произвести новое, юное и прекрасное, самое прекрасное из того, что доведется ей создавать. Земля корчилась, извивалась, рычала, обливалась кровью — голубой и багровой, а разрешившись от бремени, расцвела сама и помолодела, чтобы навек остаться такой. И лишь кое-где запечатлелись на лоне Земли родовые рубцы — почетные, выстраданные, совсем не уродливые.
Наверное, так вот возникает еще и Искусство. Когда рождается оно — душа художника вопит и содрогается, рыдает и рвется в клочья от любви, от ненависти, от тупого, безысходного сознания бессилия, от клокочущего желания выразить себя и — в себе — ближнего своего, от безудержной потребности сделать так, чтобы явленное было величественно и прекрасно.
Прекрасное, доброе, мужественное, гордое рождается в страдании, в сердечной спазме, в судороге, в крике.
Втихомолку проявляются лишь подлость, зависть, клевета, ползучая бездарность, тупое равнодушие, рыбье холодное скольжение.
И даже пусть тот, кто создал Красоту, окажется непригляден сам на вид — пусть, в том ли суть! Был слеп Гомер, был хромоног Микеланджело, был обрюзгл Мусоргский, суетен Бальзак, высокомерен Тургенев, несправедлив Дюма — разве это важно в них для современников и для потомков? Важно другое: они создатели бессмертной Красоты...
Иду. И веселая, добрая мать прекрасного — Земля простирается передо мною. Земля по имени нагорье Мушук.
Угрюмая, сумрачная, прячущаяся от людей за крутым, в предательских осыпях, обрывом, исполосованная шрамами, облыселая, покрытая едучим прахом, раскаленная, бесплодная теперь, как становится, износившись, бесплодной много и трудно рожавшая женщина, — земля эта виделась мне великолепной и доброй, величественной и вечной. В ней, будто неисчерпанная, невылюбленная любовь, хранились сокровища, предназначенные людям, рожденным в крови и стонах ее сыновьям, — я всегда помнил об этом, и потому я люблю морщинистую, угрюмую, на вид невзрачную частицу планеты с нелестным и даже смешным именем Мушук.
Читать дальше