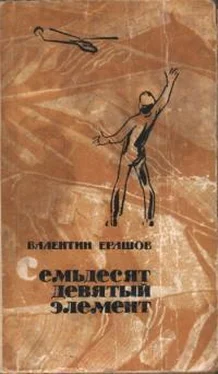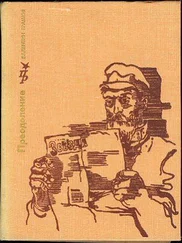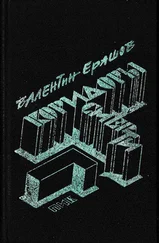А с продажей кислого кефира действительно Бжалава перемудрил, и я ему вломлю так, что долго будет помнить. Но сделаю это сам. Без участия Батыева.
И Чистякову тоже вломлю; если он лучший проходчик, это еще не значит, что может разводить демагогию. Лучший — так будь во всем передовым.
Трезвонит телефон, Батыев привычно тянется к нему, но спохватывается, трубку беру я.
Конечно, звонит Сазонкин. Разумеется, опять насчет Атлуханова. И резиновых перчаток с ковриками. Будь они совсем неладны. Это уже полное безобразие. Сколько буду напоминать Нариману! Сегодня скажу последний раз, пусть бросает все дела и гонит машину в Каракудук, в область, куда хочет.
— Хорошо, — говорю Сазонкину. — Завтра будут коврики. Да, и перчатки. Понял.
Проводить планерку при Батыеве не хочется, но Батыев не уйдет. Хуже того: станет произносить руководящую речь, и с этим ничего не поделаешь, придется выслушивать его откровения, известные мне со студенческих лет.
Собираются на планерку. Смотрю на Дымента. Держится обыкновенно. Только разве шутит поменьше. Было бы странно, если б трепался, как всегда. Все-таки событие не из приятных.
— Атлуханов, — говорю, не дожидаясь обычного рапорта Наримана, — если завтра лично не доложишь о выполнении заявки Сазонкина, считай, что переведен кладовщиком. Все. Никаких разговоров слушать не хочу.
Не так уж, по-моему, нужны эти самые коврики. Скорее вопрос самолюбия, наверное.
Нариман отлично понимает, когда от моего приказа нельзя увильнуть. Коврики завтра будут.
Никому не хочется при Батыеве обнажать свои прорехи. Планерка получается короче обыкновенного. Десять минут — и конец.
Батыев начинает речь.
Конечно, я к нему несправедлив. Он знающий инженер. И толковый организатор. Правда, ничего такого сверхъестественного для меня Батыев не открыл. Но многое подметил верно. А указания деловые. Немного обидно, что эти указания дает он, а не я.
— Прошу принять указания управляющего трестом к исполнению, — заключаю я планерку. — По местам. Я буду на шахте до обеда.
Остаемся с Батыевым с глазу на глаз. Говорить нам неохота. Батыев бесится из-за истории с Чистяковым. А я Батыева просто не люблю и без нужды не хочу с ним разговаривать.
— Я на шахту, — поясняю я.
Это, в сущности, вопрос: а ты куда, Батыев?
— Займусь с Нориным, — говорит он. — Проверю, как у него с картированием.
Испытываю некоторое облегчение: не хотелось, чтобы он увязался за мной.
Ивашнев. Семьдесят девятый элемент
Остался позади поселок, иду по мягкой дороге, сбоку торчат скелетики травы — будто большие иголки, натыканные в одеяло верблюжьей шерсти, пыльное и выгоревшее. Струится раскаленный воздух и хочется пить.
Я один, и вокруг — пустыня, она кажется необжитой и дикой, хотя верстах в двух или трех — я знаю — шахты, буровые, геологические канавы, люди, механизмы — словом, жизнь.
Всем памятны чеховские слова: «Леса учат человека понимать прекрасное».
Должно быть, горы учат понимать величественное.
А пустыня? Здесь, вероятно, познается тяжесть и томительная сладость одиночества.
Словно нет ничего на Земле — городов, дорог, женщин, забот и страстей. Ты одинок, спокоен, свободен от мелочного.
Здесь, в пустыне, ты мал и заброшен. Странно. Подобное ощущение должно бы возникать в горах. Но там этого нет. Видимо, потому, что возникает своего рода внутреннее противодействие: рядом с огромным ты не хочешь ощущать себя слабым и маленьким.
Пустыня плоска, равнодушна, беззвучна и однообразна. В ней ты — заброшен и мал.
Теряю меру времени, расстояния: чудится, будто иду неисчислимые километры и бесконечные часы.
Слышу сзади гудок и радуюсь.
Машина тормозит. Пыль висит за нею, как шлейф — пышный и плотный.
Открывается дверца. Но сверху говорят:
— Лучше сюда. Не так пыльно.
В кузове — один человек. Трясет, разговаривать трудно. И ветер отдувает слова.
Выскакиваем на взгорок. Вот оно, месторождение. Та же пустыня — и все иное. Очеловеченное, что ли? Обжитое, если можно так выразиться в данном случае.
— Дальше не поедем, — говорит мне спутник. Выпрыгивает — с борта прямо вниз, не становясь на колесо. Последовать его примеру не могу, спускаюсь менее стремительно.
— Вы, должно быть, журналист Ивашнев, — говорит попутчик. Я киваю. Мне знакома подобного рода осведомленность: в местах, где посторонние появляются редко, они тотчас делаются предметом всеобщего внимания.
Читать дальше