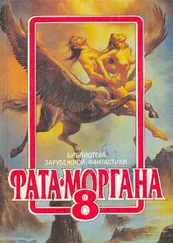Поехал он в противоположную от леса сторону, за реку, с надеждой, что Андрей Чалаев «вдруг клюнет».
Опустившись к реке, объездчик изменил направление, камышами добрался к оврагу и поскакал к лесу.
Приехав на место, он разнуздал Повитуху, отпустил пастись. И тут только вспомнил, что ружье забыл в сенцах медпункта.
— Что ж делать? Память-то совсем усохла — старость... — сокрушается он. — Возвращаться — далеко. Авось ничего не случится!
Ефимаха лег в копну, от укола пропал озноб, полегчало, болела только ягодица.
По всему полю турчали сверчки, в лесу хухукала серая неясыть. Ночь выдалась без луны, но не темная. На сумрачно-синем небе, похожие на капли, дрожали светлые звезды, сладко пахло гречихой.
«Цветет греча, а пчела без меду. Сухо, значит, дождичку б небольшого».
Он взбил сено, поудобней лег, прислушался, не гудит ли мотор. Тихо. «Без кобеля, как без рук, уйдет далеко Повитуха, и пригнать некому». Еще послушал, покусал сладковатый стебель овса и стал подремывать. Приятно было лежать на теплом, нагретом за день солнцем сене. Вскоре он забылся.
Когда подъехал Сеня, Ефимаха не видел и не слышал. Тот подогнал машину с выключенными фарами. Объездчик вздрогнул от металлического лязга захлопываемой двери: «Вон он! Ишь ты, черт, в самую полночь приперся! — Он сполз с копны. Стараясь увидеть машину, напряженно всматривался в темноту. — Кажись, от самого лесу заехал? — Услышал урчание мотора, приглушенный расстоянием разговор. — Не сам. Кто ж с ним еще?» — Зашел в лес и, стараясь не трещать сушняком, направился на звуки.
То, что увидел Ефимаха, заставило его вспомнить сон. Чалаев только успевал подъехать к копне, как она взвивалась в воздух и опускалась в кузов машины.
— Вот это ловкачи! Сенокопнителем орудуют. И ты, и Сеня здесь!..
Объездчик подождал, пока нагрузили машину, потом подошел к ним.
— Привет передовикам производства!
А сам подумал: «Эх, был бы сейчас Тузик и ружье со мной».
Сеня выключил мотор, выпрыгнул из кабины. Чалаев как стоял, так и замер.
— Ты это... один и без ружья? — спросил Сеня.
— Как один? Я всегда с кобелем и кобылой, оне в кустах с ружьем засели, на мушке ты у них, Сеня.
Тракторист растерянно посмотрел на кусты, а Чалаев расхохотался:
— Ефим Ефимыч, ну и артист же ты! Потешник, насмешник! — и стал подходить.
Объездчик окинул его взглядом: «В руках ничего нет. Этого сумею отбросить, вот как бы Сеня меня не сгреб...»
— Здравствуйте, Ефим Ефимыч! — протянул руку.
— Здоров, Андрюха... Еду, смотрю — работают, думаю, надо заехать узнать, как дела...
— Работаем... жить-то надо...
— Надо, Андрюх... Сено куда возите? Не к коровнику? А то, я сегодня видел, стожок там темнеет, — соврал он. — Никак, думаю, от лесу возить начали? Вот и решил проверить. Вы, значит, прошлый раз сколько свезли?
— Шесть, — буркнул Сеня.
— Значит, шесть да сейчас восемь, того четырнадцать...
— Ты, Ефим Ефимыч, как бухгалтер, боишься ошибиться. Копны три недосчитай, и пить неделю будешь...
— Слабость у меня, Андрюх, против этого — люблю чистую работу, честный ты человек. Ну, дак бог вам в помочь. Завтра проверю, сколько вы отвезли к коровнику... — заключил он, твердо веря в то, что теперь ворованное сено они свезут в колхоз.
Ефимаха шел и чувствовал, как сильно бьется сердце, как от напряжения дрожат руки.
Увидя шедшую навстречу Повитуху, улыбнулся: «Неужели все чуяла? Ах ты, моя умница!» Он потрепал по морде лошадь и поехал домой, думая, как ко всему отнесется председатель и будут ли еще воровать Сеня с Андрюхой.
Я иду по деревне. Сумерки, густые как туман, медленно опускаются и окутывают землю. Между черным лесом и такой же тучей краснеет узкая полоса заката, напоминающая раскаленный обрубок железа, только что выброшенный из кузнечного горна.
Давно я здесь не был, и давно перестал писать мне письма единственный грамотей из всех моих предков — дед Сафон. Эх, дед, дед!..
Я перехожу на другую сторону дороги, ставлю чемодан у ракиты. Далекое рокотание моторов сливается с треском сверчков. Из Красного лога примчался ветерок, пошептался с березками и юркнул в густые заросли лозняка, оставив приятный аромат сена.
Давно я здесь не был... год. За год можно многое забыть. Но крепкая привязанность и тяга к этой деревне всегда оставались в моей душе — это была грусть сердца о единственной встрече.
Косить меня научил дед, и я пошел в Красный лог, чтобы смахнуть в нем небольшой участок травы. Тишина, но иногда пробежит легкий ветерок, и кажется, что от этого трепетного вздоха природы диск солнца, как желтовато-белесый жучок, забьется в золотой паутине лучей. Свежескошенная трава пахнет медом. Я прохожу мимо взлохмаченных копен, путаюсь в грядках сохнущего сена. Все уже скосили, один дедов участок, как оселедец запорожца, выделяется на стриженом лугу.
Читать дальше
![Валентин Солоухин Соломенный кордон [Рассказы и повести] обложка книги](/books/389969/valentin-solouhin-solomennyj-kordon-rasskazy-i-po-cover.webp)

![Владимир Марамзин - Смешнее, чем прежде. Рассказы и повести [Сборник юмористических и сатирических, но в основе бытописательских рассказов.]](/books/39550/vladimir-maramzin-smeshnee-chem-prezhde-rasskazy-i-thumb.webp)
![Вячеслав Шишков - Хреновинка [Шутейные рассказы и повести]](/books/69192/vyacheslav-shishkov-hrenovinka-shutejnye-rasskazy-i-po-thumb.webp)