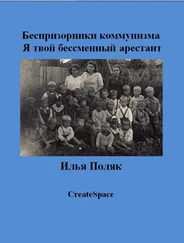— Все будет хорошо, — сказал старый доктор и улыбнулся.
Он пришел подбодрить меня, ему, вероятно, доложили, что привезли студента в тяжелом состоянии — острый аппендицит, может быть перитонит, который требует немедленной операции; возможно, ему сказали, что студент — коммунист, в больнице работали врачи-товарищи. Доктор Геллер не был коммунистом, он носил широкополую шляпу фасона, модного в двадцатых годах, во время всеобщей забастовки. После ее провала доктор Геллер основал больницу «Милосердие», в которой лечили бедняков, имеющих справку о бедности, и председательствовал иногда на лекциях кружка левых социалистов-гуманитаристов, которых мы называли «Фракционистской группой гнилых интеллигентов, льющих воду на мельницу буржуазии».
И вот он пришел посмотреть на студента-коммуниста и успокоить его перед операцией, а я, глядя на него, впервые ощутил, что могу умереть; не когда-нибудь, а сегодня, через минут двадцать или через полчаса. Почему-то я вспомнил, что, когда меня везли по коридору в операционную, молодая женщина в белом халате, в тапочках на босу ногу стояла на коленях на подоконнике и мыла окно. Я подумал, что она еще не успеет его домыть, как меня уже не станет, обратно мимо нее повезут труп.
— Я не боюсь, доктор. Не беспокойтесь за меня.
— Кураж, и все будет хорошо…
Я действительно не боялся. Это не был страх, это было другое чувство, более сильное и куда более мучительное. Рядом с операционным столом стояла ширма, мне вдруг показалось, что она из папиросной бумаги — достаточно ее хоть слегка задеть, она прорвется, и я буду уже т а м, по ту сторону.
Как тонка, хрупка и незначительна перегородка между жизнью и смертью, думал я, лежа на операционном столе. Как легко, как быстро и непоправимо ее можно сломать. Одно неверное движение, один случайный надрез — и все будет напрасно. Напрасно надели они белые крахмальные халаты и белые шапочки. Напрасно кипятят вот эти хитроумные и страшные иглы, ножницы, скальпели. Напрасно приходил старик Геллер, гладил свои белые усы и говорил: «Кураж, и все будет хорошо»…
Операция делалась под местным наркозом, наступил момент, когда он перестал действовать, и я почувствовал страшную боль, мне казалось, будто у меня отрывают внутренности. Боль была так сильна, так нестерпима, что я пробовал вырвать руки из кожаных петель и встать со стола. Но боль была спасением, она заставила меня забыть о смерти.
Когда меня везли из операционной назад в палату, я снова увидел женщину, мывшую окна в коридоре. Как я и предполагал, она еще не закончила свою работу. Я был жив, но знал, что могу все же умереть через пять минут, через полчаса, через три дня.
С того дня я всегда помнил, что могу умереть через пять минут, через полчаса, через три дня. И никогда уже не забывал седую голову доктора Геллера в окошке операционной и женщину в белом, моющую окно в коридоре, — оба лика смерти выглядели безобидно и ужасно. Ц д у к э т а ц л м и м у в э с…
После выхода из больницы я решил уехать из Румынии — я хотел поглядеть на революцию. Черт возьми, я могу умереть и не увидеть революцию. На бухарестских улицах хозяйничали фашисты в зеленых и голубых рубашках, в профсоюзах сидели соглашатели, вожди революционной Гривицы сидели в Дофтане, а на царанистских митингах, куда мы ходили кричать «Долой фашизм! Да здравствует Народный фронт!», Маниу провозглашал: «Да здравствует король — долой Лупеску!» Нет, в Румынии я не надеялся больше увидеть революцию. Я решил изучить английский язык и отправиться бродить по свету. Должна же где-нибудь начаться революция?
Английский язык преподавался бесплатно в Институте английской культуры. Достопочтенный Чарльз Прайс — священник англиканской церкви в Бухаресте и руководитель курса — сразу почему-то обратил на меня внимание и сказал, что у меня хорошие лингвистические способности. Я обратил внимание на светлые, красивые глаза священника, на его крепкое сложение, сильный проникновенный голос и неистощимый запас энтузиазма. У него всегда было хорошее настроение. Все у него было — и крепкое здоровье, и хороший цвет лица, и огромный запас доброжелательства ко всем людям. Он просто ставил меня в тупик и поучал меня, делая это так, что я и не заметил, как он начал вмешиваться в мои дела. Я приходил к нему пить чай, вот сюда, в эту комнату; там, где сейчас расхаживает Менген, ходил взад и вперед Чарльз Прайс. Его глаза излучали веру в будущее, его слова говорили о ясности. Он объяснял мне трудные обороты и старинные английские выражения — в английской грамматике царила ясность. Потом он незаметно переходил к библии, объяснял значение слов «царство божие внутри нас», человек не может знать всех последствий своих поступков, только любовь открывает нам великую тайну — как жить в согласии с самим собой и со всем светом.
Читать дальше