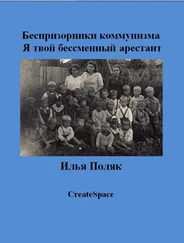— Конституция? Сейчас я тебе покажу конституцию!
Прежде чем он успел сделать следующий шаг, я добежал до окна. В первое мгновение я не почувствовал боли. Я был слишком возбужден, чтобы ее чувствовать. Что-то обожгло меня, ослепило, настоящей боли не было — она пришла потом…
Даже после этой истории никто не называл меня сумасшедшим. Старик меня ругал и перевел на работу в МОПР, все меня поругивали, а втайне гордились мною. Сумасшедшим назвал меня товарищ Арон в Бендерах, но это было позднее, когда я уже ушел из движения. Товарищ Арон еще ничего не знал.
Я приехал в Бендеры в последний раз, приехал похоронить отца. Старик лежал на столе, ссохшийся от болезни и смерти, я его не узнавал — все в нем изменилось, тело стало маленьким, жалким, неподвижным, а я никогда не видел его смирным и неподвижным. Мать стояла рядом и не плакала, она отплакалась еще до моего приезда и теперь смотрела больше на меня, чем на отца, и в ее взгляде я вдруг увидел радость — она радовалась, что я хорошо одет, таким она меня еще никогда не видела. В дверях стоял товарищ Арон и делал мне знаки, чтобы я вышел из комнаты. Я долго не мог понять, что ему нужно.
— Мы решили устроить демонстрацию на похоронах твоего отца. Он не был организованным, но все-таки боролся, не верил в бога и ненавидел буржуазию. Словом, ты, как товарищ, обязан нам помочь.
Я сказал, что вышел из движения, теперь я уже не товарищ.
— А кто ты теперь?
— Христианин. Я крестился. Разве вы не слышали?
— Ты сумасшедший, — сказал Арон и ушел не попрощавшись.
По дороге на кладбище было сыро, холодно, ветер срывал с деревьев последние листья, и они падали на землю вместе с хлопьями мокрого снега. На мокрых заборах сидели промокшие вороны и каркали: «Конец… конец…» Последним в похоронной процессии шел служка Лейзер, у него было красное лицо любителя выпить, в руках он держал жестяную кружку, и, выкрикивая простуженным, но веселым голосом: «Ц д у к э т а ц л м и м у в э с» [98] Милосердие спасает от смерти (древнееврейск.) .
, он бодро встряхивал кружкой, в которой звенели редкие медяки. Когда носилки с отцом опустили на землю у раскрытой могилы, Арон протиснулся вперед и начал говорить. Я ничего не расслышал, потому что евреи из погребального братства набросились на него: «Замолчи, босяк!.. Кощунство!.. Нахальство!.. Побойся бога!..»
Я смотрел на отца, он лежал на носилках, прикрытый черным покровом, на который падал мокрый снег; отец умер, лежал равнодушный, чужой, и я подумал, что это в первый и последний раз в его присутствии идет спор, в который он не вмешивается. Я тоже не вмешивался. Ветер гнал с Днестра черные ленты облаков, вороны трещали: «Конец, конец…», а Лейзер все еще потрясал своей кружкой и бодро кричал: «Ц д у к э т а ц л м и м у в э с…»
Когда я пришел домой и мать осторожно, чтобы не испортить, надрезала в знак траура лацкан моего пиджака, я все еще молчал. В тот же вечер меня арестовали, и пришлось заговорить. Они привели меня в кабинет полицая.
— Ты зачем сюда приехал, большевик, — хоронить отца или устраивать демонстрации?
Пришлось сказать им, что я ушел из движения.
— Ты уже не большевик, а кто ты?
— Я христианин. Я крестился…
— Ты сошел с ума? — спросил полицай.
Они решили, что я издеваюсь над ними, и избили меня. Они кричали, что я симулянт, и били меня, а я молчал. В первый раз в жизни меня били, и я не сопротивлялся и все время слышал звенящий голос Лейзера: «Ц д у к э т а ц л м и м у в э с…»
Я и теперь его слышу, хотя Лейзер давно умер, его убили, как и всех краснолицых евреев, членов погребального братства, которые хоронили отца.
Ц д у к э т а ц л м и м у в э с…
В тот осенний день на бендерском кладбище я встретился со смертью уже не в первый раз. В заснеженном шалаше на берегу Днестра я не испугался. Мне было шестнадцать лет, и я как-то не представлял себе, что могу умереть. Даже когда Тихий стрелял в меня, я себе этого не представлял. Десять лет спустя в Бухаресте я все понял и ужаснулся.
Смерть оказалась непохожей на безобразную старушку, на скелет с косой, который рисуют в книжках. У доктора Геллера было красивое, благородное лицо, пушистые белые усы, мохнатые брови и добрые светлые глаза. Он просунул голову в окошко операционной, когда я уже сидел на столе и мне делали анестезирующий укол в позвоночник.
— Кураж, молодой человек, все будет хорошо, — сказал доктор Геллер.
В то мгновение я впервые понял, что могу умереть. Немедленно. На этом столе, на котором сидел, на длинном столе с белой клеенкой, кожаными ремнями и никелированными ручками.
Читать дальше