— Чего мне придираться. Научить хочу.
— Научи лучше стрелять, открой секрет.
— Никаких секретов нету, Павел Елизарыч.
— В чем же дело? Столько патронов распулял, а результат…
— Все дело в ответственности.
— Не понимаю.
— Как бы вам это сказать… На охоте надо собрать себя всего в кулак, чувствовать ответственность перед кем-то за каждый выстрел, за каждый промах.
— Ну и скажешь! — Говорухин расхохотался, круглые плечи его сотрясались, голова раскачивалась. — Комик ты, Саша.
— Ничего не комик. Вот, к примеру, у меня на десять выстрелов два промаха. Я должен добиться, чтобы не было ни одного.
— Это немыслимо!
— Я читал, что Тургенев на вальдшнепиной охоте и то не делал промахов. А на уток охота ребячья… Только измаешься да вывозишься в грязи. Красоты в ней мало.
— Насчет красоты, пожалуй, ты прав. На вальдшнепа охота чистая, сухая, в золотом осеннем лесу… но очень трудно попадать… летит быстро. Ну, а что касается ответственности, то это слово ты прилепил не к месту. Какая на охоте ответственность! Это же развлечение. На работе — другое дело, там требуется ответственность.
— На ра-бо-те? — Саша резко повернулся к Говорухину, и тот увидел в лице его такое насмешливое выражение, что с любопытством ждал чего-то необычного. Но Саша только махнул рукой.
— Говори, чего ж ты.
— На работе все ваши промахи на подчиненных распределяются.
— Ты эту философию брось!
— А что? Критика — движущая сила нашего общества. Так ведь вы на собраниях говорите.
— Так ты на собрании и критикуй меня за работу, а не за охотничьи недостатки.
— Как же… критикнешь вас на собрании-то!.. Сразу в демагоги или в критиканы попадешь, в подрывщики авторитета…
— Ты, однако, нахал, Александр Николаевич.
— Зачем же обзывать! Я ведь вежливо говорю. К слову пришлось.
Некоторое время они молчат. Костер, потрескивая, освещает их мрачные, медные лица. Выпотрошенных и присоленных уток они развешивают на ветках дерева. Закуривают, каждый из своей пачки. Саша помешивает в котелке кипящий шулюм, наливает чайник, вешает над пламенем. Отойдя за машину, он смотрит в темноту. То тут, то там горят в ночи костры по берегам болот, пируют охотники. Саше и самому не терпится выпить а поесть. Постояв немного, подумав, он достает из машины продукты, ставит перед Говорухиным:
— Раскладывайте, шулюм готов.
Говорухин оживляется, брови разглаживаются, руки раскидывают по земле брезент.
Лед в ведре растаял, но водка еще прохладна, шулюм на редкость вкусный, аппетит у охотников ненасытный, и они пьют, крякают, шумно дышат и громко жуют.
— Ты поваром случайно не был? — спрашивает Говорухин. — Уж так вкусно всегда стряпаешь.
— На охоте лапоть свари, так и его слопаешь.
— Ну, нет. Не кривя душой говорю, незаменим ты в таких поездках. На все руки.
Наевшись, курят, смотрят в костер. Потом долго пьют чай, натягивают марлевый полог от комаров и, положив в костер толстые валежины, заваливаются спать. Ночью они часто просыпаются, пьют пиво прямо из бутылок и снова засыпают…
Чуть свет Саша разбудил Говорухина. Натощак сходили они на болото, постояли на утренней тяге и позавтракали поспешно: надо торопиться домой, пока утки не протухли.
Как всегда Саша разложил уток на два рядка — один себе, другой Говорухину.
— Не надо, Саша! — запротестовал Говорухин. — Ты добыл двенадцать, а я шесть.
— Вся добыча пополам: таков охотничий закон.
Говорухин покорно сдается:
— Ну, ладно, раз охотничий закон.
Эта процедура дележа и этот разговор происходит на каждой охоте.
Уже светло. Все уложено в машину, залит костер, и можно ехать. Саша становится подобранным, деловито серьезным. Для него началась служба. Говорухин о чем-то думает и будто стыдится чего-то.
Через минуту они едут, покачиваясь от толчков машины на неровностях, иногда касаются друг друга плечами. Едут уже не охотники, а начальник и подчиненный. И каждый чувствует, что снова легла между ними грань и будет лежать до следующей охоты.
![Григорий Боровиков В хвойном море [Рассказы] обложка книги](/books/385339/grigorij-borovikov-v-hvojnom-more-rasskazy-cover.webp)


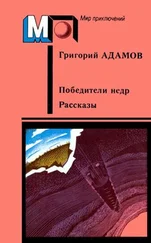





![Ревекка Рубинштейн - За что Ксеркс высек море [Рассказы из истории греко-персидских войн]](/books/408677/revekka-rubinshtejn-za-chto-kserks-vysek-more-rasskazy-iz-istorii-greko-persidskih-vojn-thumb.webp)


