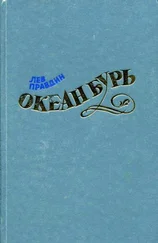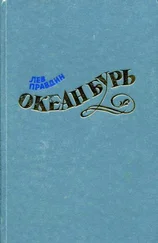Пока он решил отправиться домой, в этот рассадник, совсем уже лишенный всякой деловитости, а поэтому полный самых вредных эмоций.
17
На подоконнике в глиняном кувшине несколько березовых веток и полураспустившаяея сирень загородили все окно. Крутилин привез. Сказал: «Это букет, или, вернее, куст из Березовой ростоши, — Роману главное лекарство». Крутилин! Никогда бы не подумала, что он способен на такие нежности. Правда, кроме того, он привез меду, масла и еще чего-то. Все он передал бабе Земсковой. А букет — Симе. Она поставила его на подоконник в глиняной кринке.
Конь Крутилина, привязанный к тарантасу почти под самым окном, с хрустом пережевывал сено и гулко бил о землю кованым копытом. Все это напомнило Симе ее юность. Она тогда училась в городе, потому что в их деревне была только начальная школа. К ней вот так же приезжал отец, привозил ей продукты и привязывал коня к черной плетенке тарантаса. Цветов не привозил. Ни он, никто другой никогда еще не дарили ей цветы. Не та удалась жизнь.
Роман дышит спокойно и ровно. Спит. А температура? Не проснулся даже, когда Сима прикоснулась губами к его лбу, чтобы проверить температуру. Кажется, доктор, дай ему бог хорошего улова, ошибся: никакое это не воспаление легких. Простыл, вот и все.
А Крутилин сидит на крыльце с бабой Земсковой, они тихо о чем-то разговаривают. Но вот Симе показалось, будто звучит голос Стогова. Она подошла к окну и, невидимая, стала, прислушалась. Да, подошел Стогов. Поздоровался. Наверное, он знает, что она здесь, у постели больного. Знает — ну и пусть. Ничего теперь она не собирается скрывать, просто сейчас не хочется разговаривать. Этот крутилинский букет — надежная защита. А сердце неспокойно встрепенулось. Жалость? Бабье чувство, никому еще от него пользы не бывало. И Стогов жалости не примет. И не надо этого. И при чем тут жалость, когда есть любовь, начисто убивающая всякую жалость. Любовь безжалостна и беспощадна, другой не бывает, и, может быть, в этом ее сила.
Как бы подтверждая ее мысли, Крутилин сказал:
— Идет за хлеб беспощадная битва.
«И за любовь тоже, — подумала Сима. — Без любви — как без хлеба».
— Весенний день год кормит. Сейчас если ошибешься, то уж на весь год, — сказал Крутилин.
А Сима подумала: «А может быть, и на всю жизнь…»
Заговорила баба Земскова, и в ее словах Сима услыхала почти дословное повторение своих мыслей:
— А иной так согрешит, что за всю жизнь не отмолить.
Мысли-то ее, но как это вызывающе прозвучало. Ох, не любит ее баба Земскова! Это Сима почувствовала с самого начала. Вот она говорит, а слова у нее тяжелые, как камни:
— Не столько Романа нашего вы обидели, сколько себя самого.
Тишина. Конь звенит сбруей и яростно трется о тарантас.
— Он нам не родня, а родней родного. А он к вам всей душой…
— Все я знаю, — отозвался Стогов.
— Знать-то все знают, да не всякий скажет.
— Ну, довольно, — Стогов поднялся. — Этот разговор ни к чему.
— Можно и так, — согласилась баба Земскова, и Симе показалось, будто она усмехнулась.
— Балуй! — прикрикнул Крутилин на коня.
Стогов начальственно спросил:
— Здоровье Романа как?
— С больного здоровья не спрашивают, — ответила баба Земскова, подчеркивая, что действительно все разговоры тут ни к чему.
И снова Крутилин прикрикнул, хотя и не повышая голоса:
— Не то говоришь, Наталья.
— Ничего, давай! — снисходительно отозвался Стогов.
— А если давай, то давай напрямки. Мы тут все — коммунисты.
— Тогда я, беспартейная, пойду, извиняйте за мое суждение.
— Сиди, Наталья. Ты в партию, считай, вступила, когда мужика своего на расстрел провожала. А может быть, и много раньше. Так что от тебя секретов не может быть.
— Все, что надо, уже сказано. — Стогов стоял у крыльца, скрестив руки на груди. Его очки отражали неяркий свет, падающий от окон, отчего он казался незрячим. У Симы снова мелькнула мысль о том, что, пожалуй, и он сам, и его положение достойны жалости. Но Стогов жестко разбил эту мысль.
— Что вам надо? Какую правду вы требуете от меня? Да, рапорт этот липовый. Буза! Пользы от него никому и никакой. Польза бывает только от настоящего дела. Я признаю только одну правду: правду конкретных дел, а все остальное мелочь, не стоящая внимания. Вот плотина — это единственная и самая высокая правда. А какой ценой, кто пострадал, кто герой? На все на это нам наплевать.
Еще вчера ночью, когда он ехал в райком и собирался вздремнуть перед предстоящей борьбой, в общем, он был спокоен. Да, он думал об измене жены — на этот раз он почему-то ей поверил — и был потрясен нелепой смертью Боева. Но это все пришло, нахлынуло, как весенняя вода, побушевало и ушло. Самое главное — не поддаваться стихии чувств, выстоять. И он выстоял, все обошлось, так почему же теперь он не испытывает спокойствия, без которого трудно жить и совсем невозможно строить?
Читать дальше