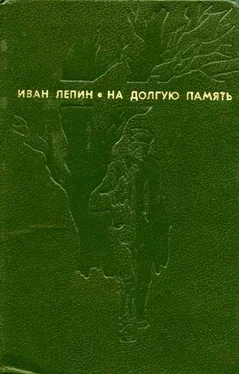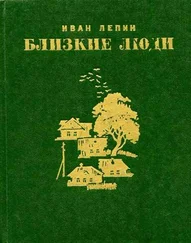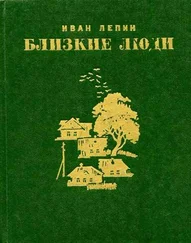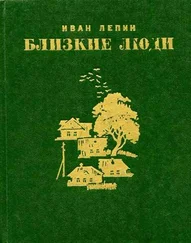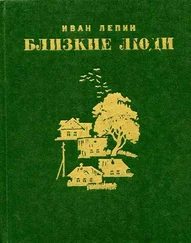За Байрамгуловым, слева от дороги, горы пошли покруче, полесистее. Все чаще березы и тополя уступали место темно-зеленым елям и соснам.
Огонь у меня внутри потихоньку потухал, становилось легче.
Справа петляла неширокая речка, берега ее густо поросли кустарником.
— Урал, — сказал Захар Николаевич. — Сейчас обелиски будут.
И верно: минут через пять мы остановились у мостика через реку. На одном его конце стоял высокий конусообразный обелиск с надписью: «Азия». На другом — такой же. Только надпись иная: «Европа». Мы ехали в Европу.
Захар Николаевич велел мне встать на фоне «Азии». Навел фотоаппарат:
— На добрую память…
Я стоял, ждал, пока вылетит из фотоаппарата «птичка», и вспомнил свою первую учительницу географии Елену Павловну. Вспоминал, как гоняла она нас у карты, заставляя четко и ясно показать границу между Европой и Азией. Проходила та длинная граница и по реке Урал. Почему-то мне тогда казалось, что граница должна быть непроходимой и непроезжей или что стоят на ней вооруженные люди и не пропускают через нее кого зря. «Вам в Азию нужно? — спрашивали они. — Зачем? Просто так? Не пойдет. Вот если земли новые открывать — как Хабаров, Поярков, или в поход, подобно Ермаку, тогда — пожалуйста. А просто так — не пустим». И загораживали дорогу пиками.
«Дорогая Елена Павловна, — мысленно произносил я, — границу между Европой и Азией я теперь знаю не только по карте, я ее увидел воочию. И даже сфотографировался на память. Вот когда буду в Хорошаевке, я обязательно зайду к вам и покажу эту фотографию».
Мы долго петляли по узким улочкам большого рабочего поселка Миндяка. И вот наконец остановились возле добротной избы. Под окнами с резными наличниками на скамье сидел, опершись на костыль, седоусый старик.
Захар Николаевич вышел первым и направился к старику.
— Здравствуйте, Степан Григорьевич!
Старик привстал.
— Захар, никак?
— Он самый.
Они обнялись.
Подошли и мы с Володей.
— Здравствуйте! — подал руку Володя.
— Здравствуйте вам! — подал руку я.
Степан Григорьевич заволновался, поправил орден Красной Звезды на лацкане полосатого пиджака.
— Айдате в избу.
У крыльца Степан Григорьевич остановился.
— Один кобель в хозяйстве остался, все пустует, — сказал он, глядя на просторный хлев, на сарай. — Варвара вот уже полгода лежит, не встает, сам никуда не годен стал — с ногой что-то. Война, видно, сказывается. Мы, когда Ленинград обороняли, под Красной Горкой в сплошном болоте стояли…
— Вам уже сколько?
— Восемьдесят один.
— Все равно вы молодцом выглядите.
— Кабы, Захар, я не был молодцом, меня бы Акулиной звали, — весело сказал Степан Григорьевич.
Варвара, сестра Захара Николаевича, лежала в горнице на кровати. Глаза ее были закрыты, лицо — бледно, губы — синие.
— Вот, — сказал Степан Григорьевич, — милуйся.
Захар Николаевич осторожно присел на край кровати. Жалобно скрипнула под ним панцирная сетка.
— Варь, ты не спишь? Ты слышишь меня? Это я, Захар. Варь!
Ни одна жилочка не шевельнулась на ее лице.
Захар Николаевич взял руку сестры, пощупал пульс.
— Бьется…
И горестно подсел к нам, на свободный стул возле стола.
Степан Григорьевич тем временем резал складным ножом сало.
— Это зачем?
— Ты за кого меня, Захар, принимаешь? — спокойно, чистым ровным голосом спросил Степан Григорьевич и крутанул левый ус. — Ты к сестре пришел или?..
— Молчу, — видя, как начинает распаляться старик, успокоил его Захар Николаевич.
— То-то ж…
Я принялся рассматривать чугунный барельеф, стоявший на самодельной этажерке. Крепкое правильное лицо, ровно причесанные волосы; в петлице довоенного мундира—маршальская звезда. Стал я гадать, кто это.
— Блюхер, — подсказал Степан Григорьевич.
— Откуда он у вас?
— Э-э, браток, это длинная песня. В шахтном клубе он у нас висел. А как Блюхера не стало, я у завклубом этот портрет выпросил. Мы ведь в гражданскую воевали вместе с ним! Весь Урал прошли. Хороший был командир! Нравится портрет-то?
— Нравится.
— Возьми тогда.
— Что вы!
— Бери, раз говорят. Только береги, как я берег. В Каслях отлит — не в какой-нибудь захудалой литейке…
При этом Степан Григорьевич добавил соленое словечко. Крепок он был в свои немалые годы. Усы — как у Чапаева, зубы — необыкновенной белизны и все целые, глаза — то игривые, то лукавые, то колючие и строгие — все зависело от настроения. Вот лишь нога подвела Степана Григорьевича — совсем не держит. Без костыля он теперь и шага не сделает.
Читать дальше