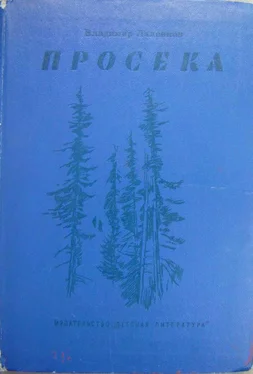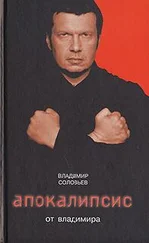— Тут вам не Нева и не Волга, — говорит он. — У Енисея на каждом километре свои загадки!
Как два дня, пролетают ещё две недели. Вдруг нас начинает одолевать бессонница. В десять часов вечера, выкурив комаров из палатки, забравшись в мешки, болтаем о разных разностях. Вскоре спим как убитые. Но вот слышишь: «з-з-з-з», — тоненько, тоненько зудит комар над головой. «Пусть, сволочь, зудит». Переворачиваешься на другой бок; уставшее тело просит покоя, сна. Но не спится. «З-з-з-з», — поёт комар.
— Ах, проклятый! — Дима вскидывается, машет руками. Переменив позу, затихает. Вот-вот, кажется, я засну. Но опять поёт комар. Он то приближается к моему лицу, то отлетает. Сажусь, зажигаю спичку и закуриваю. Осматриваюсь: где же он? Успел спрятаться куда-то.
— Не спишь, Димка?
— Да, проклятые, не дают покоя! — отвечает он.
Смотрю на часы Бурсенко, лежащие на полочке: четверть первого! Докурив папироску, опять ложусь. Но долго ворочаюсь, вижу какие-то обрывочные сновидения.
Подобное и с Димой творится. Потом такая же бессонница одолела и Федотова.
Утром Бурсенко долго расталкивает нас. В голове шум и звон. Полусонные, завтракаем. В нормальное состояние приходим, пройдя километра полтора-два. Мы начали слабеть. Конечно, вначале замечаю это за собой. Совсем недавно кедр диаметром сантиметров в пятьдесят я валил быстро. С короткой передышкой. А Дима и Федотов в это время промеряли расстояние между пикетами. Заготавливали колышки. Теперь после десяти — пятнадцати ударов топором пальцы мои слабеют, в глазах расходятся жёлтые круги, носятся чёрные точки. Комариное зудение наливает меня злобой. Вонзаю топор в ствол, нахожу ручей, пью, окунаю лицо в ледяную воду. Бурсенко ничего, не говорим, но он сам всё видит прекрасно. Часа в три дня мы упёрлись в толстенного старика в полтора обхвата. Вершина его уже сухая. Я ударяю обухом по стволу, прислушиваясь к звуку. У пятисотлетних крепких стариков внутренность уже пустая. Иной видом ещё могуч, а всадишь в него топор, и сразу ощущаешь, что ствол пуст. Этот крепок. И мне боязно за него приниматься: вдруг, кажется мне, провозимся с ним до вечера и не свалим. Подошли Дима и Федотов, тоже постучали по стволу и присели. Бурсенко направляется к нам.
— Ну что, друзья? — Маленькие его глазки лукаво смотрят на нас. — Кажется, пора сделать большой перекур? Выдохлись?
Мы трём лица, шеи. Не отвечаем. Меня даже зло берёт: чего он улыбается? Сам только топчется вокруг своего нивелира!
А он говорит:
— Вы особо не стесняйтесь и не волнуйтесь: такое творится со всеми в тайге. Это не от работы, а от комаров. Вы ещё долго продержались, скажу вам. У нас есть кадровые рабочие, которые и месяца не выдерживают. Неделю-полторы поживут в деревне, потом уж возвращаются. Чего молчите? Делаем большой перекур? Два дня порыбачим, суток трое в деревне пооколачиваемся.
— Давайте?
Я смотрю на Диму, Федотова.
— Давайте.
С трудом встаём. Плетёмся к палатке. Дима затягивает песню. Далеко-далеко Трезор кого-то облаивает… Когда выходим на берег, видим возле нашей лодки серый катер. Костёр горит. За столом сидит человек в чёрном плаще, на голове мичманка. Пьёт чай из кружки Бурсенко. Оказывается, это инспектор Бровин. Он здоровается с нами.
— Я похозяйничал тут у тебя, Виктор Василич, — сутки горячего во рту не было. Думал, вы к ночи вернётесь…
Он коренаст, кривоног. Вылив остатки чая из кружки, споласкивает её. Берёт Бурсенко под руку:
— Пройдёмся немножко, Виктор Василич…
Вскоре возвращается. Катер уносит его.
— Чего это он? Случилось что?
— За поворотом в заливе обнаружил больше десятка осетров с рваными спинами. Где-то поблизости самоловы ставят.
— Сосед наш Тутка?
— Нет. У Тутки, говорят, костяные крючки. И у него почти не срывается рыба. Кто-то другой работает. И хитро: где-то поблизости от Тутки, чтоб прикрыться им. Неужели кто из наших?
Что ему ещё говорил Бровин, Бурсенко не сообщает, а мы и не спрашиваем. Здесь ревниво придерживаются правила: если человек не рассказывает сам тебе о чём-то, расспрашивать его об этом не нужно.
Сегодня нам не только купаться, но и умываться не хочется. И есть не хотим. Легли у самой воды и лежим. Бурсенко разогрел обед, зовёт нас к столу, но мы отмахиваемся лениво: не хотим, потом! Он настаивает, и довольно строгим голосом, даже бранится. Никогда он ещё с нами так не разговаривал. Плетёмся к столу. Бурсенко разливает по мискам суп, оделяет нас кусками мяса. Нарезает хлеб. И при этом на физиономии его такая улыбка, будто он доволен, что тайга доконала нас.
Читать дальше