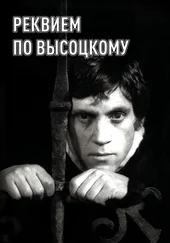— Товарищи! — вдруг раздался из толпы сильный голос.
Все затихли. Оля боязливо посмотрела в ту сторону. Говорил плотный, широкоплечий рабочий с широкой темнорусой бородой. На нем была холщевая куртка и штаны, побуревшие от прильнувшей глины, на голове смятый картуз.
— Теперь все ясно... Сидора Жигарева убило...— говорил он.— Повинен в этом несчастьи не один штейгер Яков Злобин, а хозяева рудника и... вся наша жизнь... Нужно сегодня заявить, что мы больше терпеть не в силах... Мы пойдем сейчас к управителю рудника и заявим, что до тех пор не встанем на работу, пока не уберут Злобина.
— Платы прибавить надо,— выкрикнул кто-то.
— Мы заявим сегодня о своих правах...
Оля сидела, прижавшись к стенке. Ей вдруг стало холодно. Кто-то поднял ее на руки и вынес из здания.
Хоронили Сидора на второй день. Гроб его был маленький, скорей походил на ящик. Хоронили почти все меднорудные рабочие. Они возложили на гроб венок, перевязанный красной широкой лентой; на ней крупно было написано: «Дорогому товарищу Жигареву от меднорудных рабочих». Но эти ленты недолго украшали венок. Как только люди разошлись с кладбища, пришел городовой, срезал шашкой ленты, сунул их в карман, а смятый венок бросил на свежую могилу.
После похорон Ермолаевы долго не ложились спать. Лукерья замерла в кухоньке так же, как после смерти Савелия. Несмело горела керосиновая лампа. Оля тоже не могла найти себе места.
Кто-то постучал в окно. Лукерья испуганно встрепенулась.
— Это он постучал,— сказала она шопотом.
— Кто, мама?
— Сидор.
— Ну, мама, что с тобой?
— Ей-богу, он!
Оля подошла к окну и громко спросила:
— Кто здесь?
— Откройте-ка,— послышался чей-то мужской голос.
Оля торопливо накинула на плечи шаль и выбежала во двор.
— Кто это? — спросила она, открывая ворота.
Во двор вошел человек. Лица его не было видно.
— Затвори-ка ворота, да пойдем в избу,— сказал он тихо и, не останавливаясь, прошел в избу.
— Здравствуйте! Задерни занавески-то поплотней, красавица,— проговорил вошедший и прошел к столу.
Оля боязливо посмотрела на гостя. Она узнала в нем того рабочего, который говорил на руднике. Он был и сегодня днем на похоронах. Присев к столу, рабочий достал из внутреннего кармана сверток бумаги.
— Деньги я принес вам... Вы распишитесь вот здесь на этом листе, чтобы мне перед товарищами отчитаться можно было...— Он придвинул к Оле листок и карандаш. — Двадцать девять рублей сорок пять копеек... Это подписной лист... На руднике у нас рабочие собрали вам. Хотя немного, а все-таки вам на первые дни расставка...
Лукерья припала к подушке и заплакала.
Оля растерянно посмотрела на лист. Она только в одной строчке могла прочитать «Феоктистов 10 коп.» Дрожащей рукой взяла карандаш и подписала «Ольга Ермолаева». Из глаз упала слеза, растворила чью-то подпись, сделанную химическим карандашом.
— Ну, зачем плакать? Слезами горю не поможешь,— мягко сказал рабочий.
Он придвинул к Оле, на край стола, серебряные и бумажные деньги. Потом встал, спрятал подписной лист во внутренний карман пиджака.
— Спасибо тебе, родимый мой! — воскликнула Лукерья, упав к его ногам.
Рабочий торопливо подхватил ее подмышки.
— Зачем это?.. Нельзя так... Я вам принес не свое. Чем можем, тем поможем. Я еще приду к вам. Мы хлопочем вам пособие за Сидора, рудник-то стоит. Крепко мы взялись за хозяев... Только не надо убиваться. А если что вам потребуется, так вы ко мне. Я — Добрушин, живу в Заречной улице. Павла Лукояныча спросите, вам покажут.
Он надел картуз.
— Ну, так будьте здоровы. Ну-ка, девочка, проводи меня... Как тебя зовут?
— Ольга.
— Ну, вот, проводи-ка, Оля, меня...
Во дворе он сказал:
— Вот что, ты выпусти меня через задние ворота. Я задами уйду. А что я был у вас, молчок... Понятно?..
— Понятно...
— Вот... Смотри — ни-ни... Чтобы никто не знал. И матери накажи, чтобы не говорила... Ладно?
— Ладно...
— Ну, где у вас задние-то ворота?
Оля провела его в огород.
— Ну, так я пошел... Прощайте... Я, может, приду еще к вам.
Добрушин скользнул возле стены сеновала и растаял во тьме. На далекой каланче пробило двенадцать. Оля не спала. Она лежала на своей постели, подложив руки под голову, и смотрела в невидимый потолок. Мать тоже не спала, она тяжело вздыхала, стонала.
— Ты что, мама, не спишь?
— Тошно, доченька...
Оле тоже было «тошно».
***
Спустя неделю к Ермолаевым снова зашел Добрушин. Он весело поздоровался с ними и присел к столу.
Читать дальше