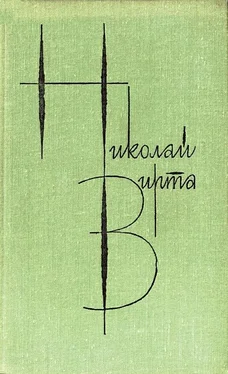Антон Ильич закапывал череп.
— Солдат. Легкая была его смерть.
— Тут страшные бои шли, — тихо сказала Люба. — Бабуня рассказывала, в нашем селе — от него и кочерыжки не осталось, оно вон там, за холмом было, в полукилометре от путей. Так вот, стоял в селе штаб какого-то полка. Наши наступали вдоль линии, а штаб полка немцы отрезали от своих, загнали в эту выемку… Человек шестьдесят их было… Санитарка, бабуня рассказывала, забежала к ней испить водицы. Шинель в крови, голова перебинтована, совсем молоденькая… Никто из них, бабуня говорит, не уцелел, бились до последнего. Может быть, кто и ушел, этого бабуня не знает. Фашисты загнали мужиков и баб в избы и с двух концов село подожгли. Кто выбегал из изб, тех убивали, остальные живьем сгорели. — Люба помолчала, может быть сдерживая слезы. — Вот тогда и убило отца и мать. А бабуня со мной в погребе отсиделась. Вытащили ее неизвестно кто, отправили в «Первомай». Хотя там немцы тоже почти все пожгли, но люди накопали землянок, в них и жили. И мы с бабуней…
Что-то еще сказала Люба, но грохот товарного состава заглушил ее слова.
— Все, говоришь, до единого полегли? — отчего-то вдруг охрипшим голосом переспросил Антон Ильич.
— Все. А вам в обход пора. — Сунула ему сверточек. — На дорожку, подорожник. — Зябко передернула плечами и скрылась в домике.
8
Волна за волной набегало тепло с юга, с далекого моря, с далеких калмыцких степей. Люба начала ремонт. Привык к ней Антон Ильич, так привык, что даже и думать не хотел, каково ему будет без нее. Люба правду сказала, была она действительно тихоня. Словно бы жила она здесь, а словно бы и не жила. Бывают такие люди: ненавязчивые, какие-то вроде бы незаметные, но и незаменимые в жизни. Делают они все споро, без дерганья и возни, но обстоятельно. И незаметно. Попривыкнув к Антон Ильичу, Люба часто пела под сурдинку; Антон Ильич ковырялся со своими делами: то Любе валенки подошьет, то малярную раздрызганную кисть починит, то своей обувкой займется, то газету вслух почитает.
К вечеру следующего после отбытия Петра Семеновича дня из совхоза приехала машина-попуток. Привезли Любе узел с ее пожитками, две подушки. Одну из них Люба упросила Антон Ильича принять в подарок: на память.
— Ляжете, меня вспомните.
— Я и без того тебя не забуду.
— Ну да!
Антон Ильич отказывался: есть у него подушка.
— Этот блин?
А когда Антон Ильич ушел в обход, подушку сожгла. Антон Ильич только руками разводил.
Еще и потому, что вместе с вещами и горой всякой снеди прислала бабуня связку книг. Заглянул в них Антон Ильич, и оторопь его взяла: книги учебные, студенческие, сплошь мудреная наука.
— Это для чего ж?
— А я на заочном. На третьем курсе биологического факультета.
— Ты?
— А что вы удивляетесь? Или туповатой вам кажется совхозная маляриха? — Глаза так и прыгают, чертенята.
Антон Ильич смешался.
— Ну и ну, — только и нашелся сказать.
Так что все вечера Люба зналась только с книгами и тетрадями. Бывало, и за полуночь прихватит. Антон Ильич притворялся, будто спит, а сам глаз с нее не сводит.
И страшная боль, глухая тоска овладевали им в такие минуты. Вот окончит ремонт и уедет; уедет, скроется с глаз, и никогда не увидеть ему эту женщину… Найдет себе мужа в пару, забудет, как жила бок о бок с невежественным солдатом, с молодым еще стариком.
За полторы недели Люба управилась с ремонтом. Антон Ильич перестелил полы, пригнал рамы и расшатанную, отчаянно визжащую дверь, починил стол, скамейки, табуретки. Люба покрасила их. А в печку вставила изразцы, достала в совхозе из барского дома, там теперь размещалась контора. Только тот дом и спасся от фашистского погрома: стоял там их штаб, потому и уцелел дом.
Одним словом, вышла избушка — людям на зависть.
Постаралась Люба.
Был воскресный день, когда Петр Семенович снова пожаловал к другу-обходчику. Приехал принять работу и отвезти Любу домой.
Ходил.
Восторгался.
Приехал Петр Семенович не один: с двумя поллитровками. И с вестью лично для него очень приятной: переводили его заместителем начальника на узловую. Глаза поблескивали от распиравшего Петра Семеновича тщеславия…
В тот вечер Антон Ильич напился до бесчувствия. Даже не помнил, как он прощался с Любой, как многократно целовались они с Петром Семеновичем и клялись в вечной и нерушимой…
Во второй половине ночи, очухавшись и поняв, что спит он не на полу, как все эти мигом пролетевшие дни, тупо, уставился в окошко на бледный серп луны, плывшей над сонным миром. Встал, вылил на голову полведра воды, озноб его пронял, прилег. Тут-то и забрала его смертная тоска: такого он еще не переживал.
Читать дальше